| ← Сентябрь 2010 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.alpklubspb.ru
Открыта:
05-04-2003
Статистика
0 за неделю


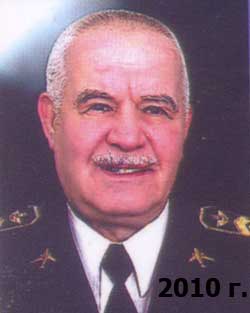
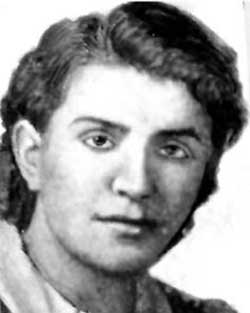
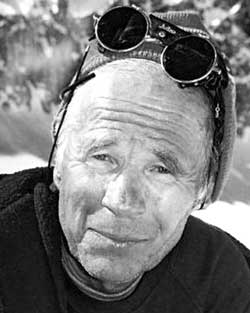



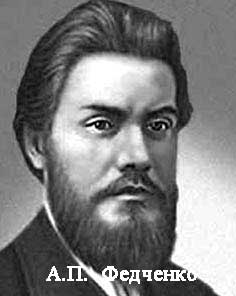
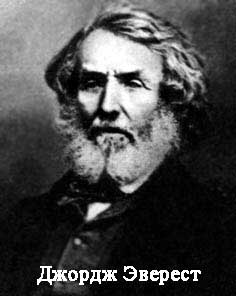 В
экспедиции Федченко к Заалайскому хребту
произошло одно событие, можно сказать
знаковое для него. Алексей Павлович в
возрасте расцвета сил (27 лет) в поисках
перевала в Зеравшанскую долину попытался,
но не смог пройти по леднику, названному
им именем Щуровского. Чтобы не
провалиться в трещины ледника,
путешественники привязывали к себе
деревянный крест из двух длинных
горизонтальных жердей. Ходить так было не
очень удобно. Может быть, поэтому за
десять часов своих усилий Федченко
удалось пройти не более четырех
километров. А может быть опыта участия в
"теплых" экспедициях по долинам, с
сопровождением каравана, чаще всего
верхом на лошади, с поддержкой молодой
супруги, было недостаточно для успешной
работы в суровых условиях ледника.
В
экспедиции Федченко к Заалайскому хребту
произошло одно событие, можно сказать
знаковое для него. Алексей Павлович в
возрасте расцвета сил (27 лет) в поисках
перевала в Зеравшанскую долину попытался,
но не смог пройти по леднику, названному
им именем Щуровского. Чтобы не
провалиться в трещины ледника,
путешественники привязывали к себе
деревянный крест из двух длинных
горизонтальных жердей. Ходить так было не
очень удобно. Может быть, поэтому за
десять часов своих усилий Федченко
удалось пройти не более четырех
километров. А может быть опыта участия в
"теплых" экспедициях по долинам, с
сопровождением каравана, чаще всего
верхом на лошади, с поддержкой молодой
супруги, было недостаточно для успешной
работы в суровых условиях ледника.
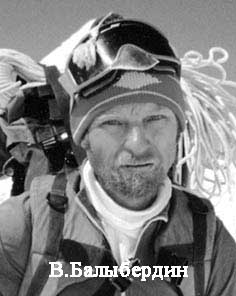
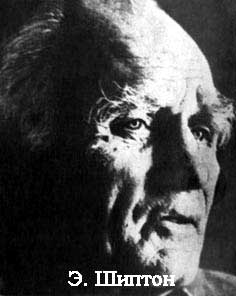 Вот
один из примеров. В 1951 и 1952 годах
знаменитый гималайский первопроходец, Э.
Шиптон дважды руководил английскими
экспедициями на Эверест. Одновременно
эти экспедиции разведывали пути
восхождения на Чо-Ойю. И хотя обе
экспедиции формально закончились
благополучно, особо выдающихся
результатов достигнуто не было, в том
смысле, что все заканчивалось разведкой
подходов. Более того, попытавшись
подниматься по западному гребню Чо-Ойю,
восходители увидели вдали ледяную стену
высотой, как им показалось, не менее 300
метров. Не производя более детальной
разведки, Шиптон решил, что это
препятствие на две недели работы и
вернулся назад.
Вот
один из примеров. В 1951 и 1952 годах
знаменитый гималайский первопроходец, Э.
Шиптон дважды руководил английскими
экспедициями на Эверест. Одновременно
эти экспедиции разведывали пути
восхождения на Чо-Ойю. И хотя обе
экспедиции формально закончились
благополучно, особо выдающихся
результатов достигнуто не было, в том
смысле, что все заканчивалось разведкой
подходов. Более того, попытавшись
подниматься по западному гребню Чо-Ойю,
восходители увидели вдали ледяную стену
высотой, как им показалось, не менее 300
метров. Не производя более детальной
разведки, Шиптон решил, что это
препятствие на две недели работы и
вернулся назад. В
1954 году Тихи организовал самую
малочисленную экспедицию из
штурмовавших восьми тысячники в те
времена: три австрийца и одиннадцать
шерпов во главе с Пазангом отправились на
Чо-Ойю. На большее у спонсоров не хватило
средств.
В
1954 году Тихи организовал самую
малочисленную экспедицию из
штурмовавших восьми тысячники в те
времена: три австрийца и одиннадцать
шерпов во главе с Пазангом отправились на
Чо-Ойю. На большее у спонсоров не хватило
средств.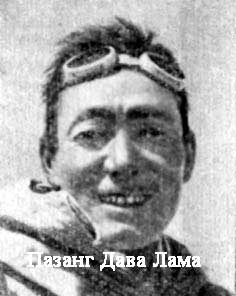 Но
это был Пазанг.
Находясь в 28 километрах за перевалом от
базового лагеря, он узнал, что
швейцарская экспедиция проследовала в
район Чо-Ойю для восхождения на вершину.
Обуреваемый спортивным честолюбием,
Пазанг бросился догонять их. С тяжелым
грузом он совершил феноменальный переход.
За три дня он дошел до базового лагеря
через перевал, поднялся в третий лагерь и
через пол часа уже вместе со всеми шел к
четвертому лагерю по сделанным им ранее
перилам через ледовую стену. И никакой
усталости!
Но
это был Пазанг.
Находясь в 28 километрах за перевалом от
базового лагеря, он узнал, что
швейцарская экспедиция проследовала в
район Чо-Ойю для восхождения на вершину.
Обуреваемый спортивным честолюбием,
Пазанг бросился догонять их. С тяжелым
грузом он совершил феноменальный переход.
За три дня он дошел до базового лагеря
через перевал, поднялся в третий лагерь и
через пол часа уже вместе со всеми шел к
четвертому лагерю по сделанным им ранее
перилам через ледовую стену. И никакой
усталости!