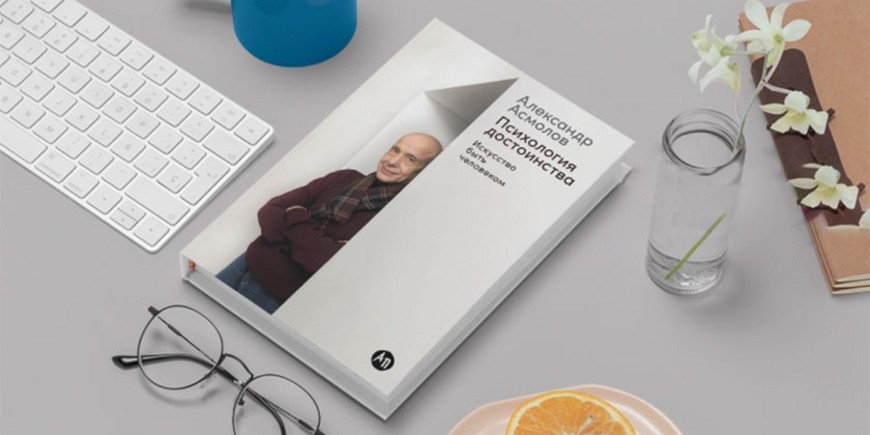«Каждый раз, когда я встречаюсь с молодой аудиторией, с первокурсниками, то ловлю себя на мысли: как они стремительно меняются!» — пишет Александр Асмолов, психолог, заслуженный профессор МГУ, доктор психологических наук.
Молодые люди в XXI веке живут по-другому, изменилось их отношение к выбору профессии, работе, учебе. Об этом Александр Асмолов размышляет в книге «Психология достоинства: Искусство быть человеком», которая недавно вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
Начну с пророческой цитаты классика культурной антропологии Маргарет Мид: «Еще совсем недавно старшие могли говорить: “Послушай, я был молодым, а ты никогда не был старым”. Но сегодня молодые могут им ответить: “Ты никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь”».
Сегодня же во всех частях мира, где народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, которого никогда в истории не было и уже не будет у старших. Не только юношеская, но и подростковая субкультура начинает сама для себя создавать программы вхождения в большой мир. И теперь совсем необязательно, что именно через мир взрослых! Есть немало других каналов для коммуникаций.
Общение в соцсетях уже давно выступает могучей альтернативой общению не то что с учителями, но и с родителями.
Мы сталкиваемся с тем, что подростки все более доверяют самим себе и все меньше — миру школы и миру взрослых.
Они опасаются наткнуться на стену непонимания — из-за привычки взрослых к гиперопеке, из-за того, что взрослые считают, что все знают… Да, так было всегда, но в современном цифровом мире острота переживания и «высота стены» становятся намного более явными.
2.
Тем не менее, чтобы отвечать на вызов новых технологий, нам потребуются не столько инновации, сколько вечные истины. Ставки резко возросли, но, как и 100, и 200 лет тому назад, все зависит от стратегии поведения взрослого сообщества в отношении к подросткам и молодежи. Если мы поймем, что главной формой общения с ними является диалог, понимающий разговор, а не приказы или крик, то отношения будут меняться.
Именно поэтому по-иному должны строиться и школьное образование, и профессиональное образование, и особенно педагогическое образование, из которого учителю нужно суметь выйти с умениями переговорщика и транслятора смыслов между разными поколениями. Мы ищем пути сотрудничества, диалога, кооперации с молодежью, живущей в мире социальных сетей, молодежью, которая все чаще без оглядки на нас наращивает свой социальный капитал в информационном сетевом сообществе.
Замечу, что в этих исканиях мы в который раз убеждаемся, что стоит только навести своего рода исторический телескоп на инновацию, как за ней во весь рост проступит традиция. За делами и проектами новаторских школ, «кремниевых долин», бизнес-инкубаторов для взращивания инновационного поведения юношества проступает, например, проект Царскосельского лицея.
По гамбургскому счету Царскосельский лицей был своеобразным культурным инкубатором (или, говоря на педагогическом новоязе, «развивающей образовательной средой»), где мотивация служения Отечеству пестовалась одновременно с мотивацией любви к свободе и с чувством большого исторического времени, «всемирной современности» своей эпохи. Хочется верить и надеяться, что для новых поколений молодежи целый мир будет восприниматься как Царское Село, а не как чужбина.
3.
Можно ли спрогнозировать, с каким поколением детей мы встретимся в самое ближайшее время? Этот наивный вопрос стоит держать в фокусе нашего внимания, отчетливо понимая, что даже дети нынешнего дня уже являются для нас с вами уравнением со многими неизвестными.
Эволюция развивается скачкообразно, а не линейно. Вспомним еще раз и пророческую повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди» (где дети вслед за таинственными «мокрецами» покидают мир не понимающих их взрослых), и «Профессию» Айзека Азимова — о судьбе подростков, отстаивающих свой путь и самобытность своего мышления, отказываясь вписываться в рамки, которые всему обществу кажутся оптимальными и очень удобными. (И обнаруживается, что именно такие чудаки, отказавшиеся от легкого пути, и двигают прогресс человечества, что признается сведущими людьми и держится в тайне.)
Оба этих произведения фактически на глазах моего поколения уже неоднократно из вымысла становились былью. Новое поколение российских граждан (впрочем, скорее несколько новых поколений) зачастую называют «непоротым поколением». Они входят в жизнь по-иному, чем мы.
Свободный выбор разных профессий оказывается нормой жизни. Люди более не привязаны, как каторжники к гире, к ядру своей специальности.
А когда-то ваше заявление о желании иметь несколько профессий расценивалось как вызов обществу, а то и как диагноз. (Так, например, в 1960-х годах к Александру Сергеевичу Есенину-Вольпину приходили ласковые представители репрессивной психиатрии и говорили: «У него раздвоение личности, он же математик, а еще и поэт — это явная вялотекущая шизофрения».)
Люди нового поколения не ожидают, что их могут обозвать тунеядцами, как некогда обзывали Иосифа Бродского за то, что он осмелился написать «Пилигримов» и подозрительно часто менял места трудоустройства.
Еще раз подчеркну, что свободный выбор разных профессий — уже норма, а не отклонение, что в личной биографии профессиональные скачки теперь признаются естественными.
Евангельская истина гласит: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Современная молодежь живет по формуле «Не человек для работы, а работа для человека». Старшие поколения часто обиженно воспринимают такую позицию как «социально безответственную», но здесь кроется коренная трансформация относительно субъектности своего жизненного пути: готовность и менять себя, и испытывать в разных профессиях.
4.
Каждый раз, когда я встречаюсь с молодой аудиторией, с первокурсниками, то ловлю себя на мысли: как они стремительно меняются! Речь не о возрасте, а о том, как влияет время перемен — социальных, экономических, культурных, психологических. Вот в прошлом сентябре на первый курс приходили ребята, ничем не похожие на позапрошлогодних, в чем-то они заметно иные. Отличаются от них и первокурсники нынешнего сентября. Думаю, так будет и дальше. (И вряд ли эти изменения происходят от неустанной работы чиновников над совершенствованием ЕГЭ.)
Время изменений ускоряется, меняются способы постижения молодым человеком обновляющейся реальности. Раньше подобные метаморфозы шли медленно: их фиксировали за десятилетия. Сейчас же пролетает год, и в аудиторию снова входят небывалые люди. В том смысле, что раньше таких здесь не бывало, да и быть не могло. Эту скорость изменений задают механизмы социализации информационной эпохи, порождающие в каждом человеке целый веер идентичностей.
Недавно на одной из лекций я задал аудитории вопрос: «Как, по-вашему, можно назвать время, в котором мы живем?» «Информационных технологий» — был первый ответ. Но уже следом прозвучало: «Безысходность». Затем: «Сетевое». Затем: «Глобальных угроз». Наконец: «Постсоветское».
Последнее слово и сегодня имеет широкое хождение. Наверное, за ним кроется идея четкого отделения нашего времени от предыдущего периода. Как учили тогда в школе: на смену феодализму пришел капитализм. Но когда мы произносим «постсоветское», то мало задумываемся, что утверждаем и явную неразрывность с советской эпохой, определяем себя через нее.
У новых поколений во многом больше шансов, чем было у нашего. Но ведь одно дело — иметь шансы, другое — воспользоваться ими. Когда-то Галич пел об исключении Пастернака из Союза писателей: «Мы — поименно! — вспомним всех, / Кто поднял руку!..» Я не могу вам ответить на вопрос, поднимут ли сегодняшние двадцатилетние руку, когда им скажут, что надо осудить современного Пастернака, современного Сахарова. Я не до конца уверен, пройдут ли они эту проверку, сделают ли они выводы. (Ведь большинство никогда не делает выводов.) Потому что это очень трудно — быть человеком.
Сегодня молодые люди 15, 20, 25 лет обнаруживают себя в ситуации, когда у общества схлопываются перспективы. Для них становится трагедией, что им не дают опробовать себя в избранных делах, им мешают конструировать собственные пути развития. Подростки все более доверяют самим себе и все меньше — миру школы и миру взрослых. Они опасаются наткнуться на стену непонимания.
Кардинальная черта кризисов — схлопывание перспектив. И с особой остротой эти кризисы переживает молодежь в возрасте, который психологи называют «возрастом бури и натиска». Но еще раз напомню замечательное определение, что живое отличается от неживого тем, что только живое способно плыть против течения. И это относится ко многим представителям нынешней молодежи. Многие из них, воспользуюсь словом философа Мераба Мамардашвили, выступают как «самоназначенцы».
Жизненный путь — это история отклоненных альтернатив. Кем вы хотели стать и не стали, и разные обломки, и прекрасные образы, оставленные позади.
Я вижу, что у многих моих молодых коллег есть уникальные возможности поиска, и они отказываются повторять траектории развития своих предшественников.
Что бы я мог пожелать современным молодым людям в момент серьезных жизненных решений? Я бы посоветовал молодому человеку, да и любому человеку, четко понимать, что каждый его жизненный выбор — это выбор самого себя. Что выбор значимых вещей — это не выбор товаров в супермаркете по принципу их приятности и полезности.
Выбор профессии — это выбор себя. Выбор любимой девушки — это выбор самого себя, а не только ее. Выбор гражданской позиции — это тоже выбор самого себя. Что бы мы ни делали, мы выбираем сами себя. И расплачиваемся за этот выбор судьбами близких и своей собственной судьбой. И нет такой шкалы, по которой определяется здесь мера успеха или счастья.
О каких выводах я рискну лишь попросить читателей после рассуждений этой главы? Пожалуй, прежде всего, об одном: чтобы они, размышляя о молодых поколениях, придерживались мудрого напутствия Бенедикта Спинозы: старались по мере сил «не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать».
- Главная
- →
- Выпуски
- →
- Стиль жизни
- →
- Книги
- →
- Смена профессий - норма
Книги
Группы по теме:
Популярные группы
- Рукоделие
- Мир искусства, творчества и красоты
- Учимся работать в компьютерных программах
- Учимся дома делать все сами
- Методы привлечения денег и удачи и реализации желаний
- Здоровье без врачей и лекарств
- 1000 идей со всего мира
- Полезные сервисы и программы для начинающих пользователей
- Хобби
- Подарки, сувениры, антиквариат