RSS-канал «Что отличает нас от зверя? Мы - убиваем в Бога веря.»
Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.
Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.
Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.
Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:
Последние новости
Новейший философский словарь. Минск – 1999 г. Научное издание
2025-06-27 23:33 papalagi
Я – фундаментальная категория философских концепций личности, выражающая рефлексивно осознанную самотождественность индивида. Становление Я в онтогенетическом плане понимается в философии как социализация, в филогенетическом – совпадает с антропосоциогенезом. И если для архаических культур характерна неразвитость Я как социокультурного феномена (наиболее яркое проявление которой – неконституированность в соответствующем языке местоимения первого лица единственного числа: наличие нескольких неэквивалентных контекстно употребляемых терминов или его отсутствие вообще, как в древнекитайском языке вэньянь, носители которого обозначали себя именем конкретного социального статуса или выполняемой ситуативной роли), то в зрелых культурах феномен Я эксплицитно артикулируется и обретает приоритетный статус (англ. «I», пишущееся с большой буквы).
Язык – сложная развивающаяся семиотическая система, являющаяся специфическим и универсальным средством объективации содержания как индивидуального сознания, так и культурной традиции, обеспечивая возможность его интерсубъективности, процессуального разворачивания в пространственно-временных формах и рефлексивного осмысления. ... Философия конституируется в этом контексте как особая «речевая деятельность» по формулировке претендующих на абсолютную истинность высказываний о мире в целом (Кожев).
...И как греки «взволнованно и неустанно вслушивались в шелест листвы, в шум ветра, одним словом – в трепет природы, пытаясь различить разлитую в ней мысль», так и современник, вслушиваясь в «гул языка» (а «гул – это шум исправной работы»), вопрошает «трепещущий в нем смысл», ибо для «современного человека этот Я. и составляет Природу» (Барт).
Вопросы философии и психологии. Год XVI. Книга V (80). Ноябрь-декабрь 1905 г.
2025-06-27 18:06 papalagi
Учение Б. Н. Чичерина о сущности и смысле права. – Кн. Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920)
...Свобода воли составляетъ необходимую принадлежность духа: существо духовное есть синонимъ существа свободнаго; вотъ почему предположеніе свободы воли въ метафизическомъ смыслѣ составляетъ необходимое условіе правового порядка. То уваженіе къ внѣшней свободѣ, котораго требуетъ право, имѣетъ смыслъ только въ предположеніи внутренней свободы духа, которая должна осуществляться во внѣшнемъ мірѣ. Идеальная задача права именно въ томъ и заключается, чтобы предоставить духовному началу возможность безпрепятственно, свободно осуществляться во внѣшней дѣйствительности. Въ этомъ заключается единственно возможное оправданіе конкретнаго, субъективнаго права. Человѣкъ дѣйствительный, возможный, предполагаемый, доженъ быть признаваемъ субъектомъ права, какъ дѣйствительное или возможное воплощеніе духовнаго начала; искусственныя, юридическія лица могутъ претендовать на уваженіе только въ качествѣ орудій духа, необходимыхъ для достиженія тѣхъ или другихъ внѣшнихъ цѣлей. Но, каковъ бы ни былъ конкретный субъектъ права, предметомъ, заслуживающимъ нашего уваженія, является въ концѣ - концовъ духъ его и свобода.
Уважать эту свободу можно только въ томъ предположеніи, что человѣкъ есть возможный выразитель и носитель безусловнаго смысла жизни. „Источникъ высшаго достоинства человѣка заключается въ томъ, что онъ носитъ въ себѣ сознаніе Абсолютнаго, то-есть этотъ источникъ лежитъ именно въ метафизической природѣ субъекта, которая возвышаетъ его надъ всѣмъ физическимъ міромъ и дѣлаетъ его существомъ, имѣющимъ цѣну и требующимъ къ себѣ уваженія. На религіозномъ языкѣ это выражается изреченіемъ, что человѣкъ созданъ по образу и подобію Божію. Отъ этого сознанія зависитъ и самая свобода и требованіе ея признанія. Фактически, это признаніе высшаго достоинства человѣческой личности, въ широкихъ или тѣсныхъ границахъ, всегда существовало и существуетъ въ человѣческихъ обществахъ; но тѣ, которые отрицаютъ метафизику, не умѣютъ и не въ состояніи указать его источникъ, ибо онъ лежитъ внѣ эмпирическаго міра“.
„Именно это сознаніе служитъ движущею пружиною всего развитія человѣческихъ обществъ. Изъ него рождается идея права, которая, расширяясь болѣе и болѣе, пріобрѣтаетъ наконецъ неоспоримое господство надъ умами. Сами эмпирики безсознательно и невольно ей подчиняются. Отсюда—указанное выше противорѣчіе взглядовъ, которое ведетъ къ тому, что отрицающіе метафизику признаютъ безусловною истиной непосредственный ея продуктъ—объявленіе правъ человѣка".
...Все наше жизненное стремленіе имѣетъ смыслъ только при томъ условіи, если человѣкъ есть непреходящая форма, могущая вмѣстить въ себѣ вѣчное, безусловное содержаніе, если воля человѣка свободна достигнуть и осуществить въ нашей жизни это содержаніе. Абсолютное, безсмертіе и свобода,— вотъ тѣ три основные постулата, которые заключаютъ въ себѣ оправданіе права, потому что они составляютъ оправданіе самой человѣческой жизни.
Алексей Викторович Иванов (1968--) Географ глобус пропил. 1995 г.
2025-06-27 17:49 papalagi
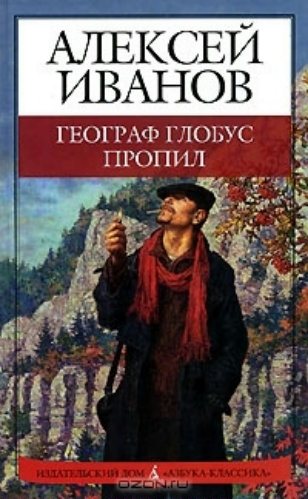
Жанр: Современная проза
Издательство: Нигде не купишь
Исполнитель: Ирина Ерисанова
Продолжительность: 12:14:42
Прочитано по изданию: СПб. Азбука-Классика, 2005
Торрент
Джон Локк (1632—1704) Сочинения в трех томах. Том 3. Москва – 1988 г.
2025-06-27 15:33 papalagi
Два трактата о правлении (1692)
(Two Treatises of Government. In the Former the False Principles and Foundation of sir Robert Filmer and his Followers are Detected and Overthrown. The Latter is an Essay concerning the True Original, Extent and End of Civil Government)
Книга первая. Глава ΧI. Кто этот наследник?
130. «Если коснуться войны, то мы видим, что Авраам командовал войском, состоявшим из 318 бойцов — членов его семьи, а Исав встретил своего брата Иакова с 400 вооруженными людьми. Относительно же мира: Авраам вступил в союз с Авимелехом и т. д.». Разве нельзя человеку иметь в семье 318 мужчин, не будучи наследником Адама? У какого-нибудь вест-индского плантатора их больше, и он может, если захочет (кто в этом сомневается?), собрать их и повести на индейцев, чтобы отомстить им за любой ущерб, нанесенный ими, и все это без «абсолютной власти монарха, полученной им по наследству от Адама».
Пара слов о преступности и разрухе в 1917 году. И чуточку о причинах "гражданской войны"
2025-06-27 12:45 papalagi
Отрадно видеть, что многих граждан эта тема интересует. И многие не удовлетворяются простым объяснением от людей со светлыми лицами, что причиной развала государства стали кровавые большевики во главе с немецким наймитом.
Не будем забывать о таком факторе, как амнистия, которую объявило Временное правительство, об избиении городовых, о ликвидации местной власти, об отмене единоначалия в армии. По трём амнистиям Временного правительства из мест лишения свободы выпустили порядка 90 тысяч заключённых. Так что там было кому разгуляться.
А там и солдатики с фронтов подтянулись. Потом чехословацкий корпус был вдумчиво распространен по стране. "К началу мая 1918 года чехословацкий корпус состоял приблизительно из 35 000 бойцов и распределился по территории России на четыре группы. Около трети добровольцев, примерно 14 000 человек, успешно проделали весь путь и были уже во Владивостоке. Вторая группа, примерно 4,5 тысячи человек, растянулась по Сибири от Омска до Ново-Николаевска (современный Новосибирск) и Мариинска. Третья группа чехов расположилась на Урале в районе Челябинска. Четвёртая и последняя группа ещё не выехала из Пензы". А там и интервенты подтянулись.
И понеслось...
Декреты Временного правительства и персональные решения и поведение Керенского весьма интересны и стоят того, чтобы ими поинтересоваться.
История с отменой единоначалия в армии -- вообще отдельная песня.
Как февралисты уничтожили армию
отсюда
Зачем евреям США, или вновь ответы находим в старых текстах. Или пара слов о политической ситуации.
2025-06-27 12:02 papalagi
Итак, Яков обманом получил благословение Эсава. Тот пообещал убить его после смерти их отца, Ицхака. Мама, по чьей инициативе все эта история замутилась, отправила Якова от греха подальше к своему брату Лавану. Там Яков пробыл двадцать лет. С помощью Бога, труда и терпения, он поимел двух жен, дочерей Лавана, детей, множество крупного и мелкого скота, рабов и рабынь, и, тайно покинув тестя, возвращается домой. Опасаясь Эсава, он шлет перед собой вестников:
и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил доныне; и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я послал известить о себе господина моего [Исава], дабы приобрести [рабу твоему] благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана. И сказал [Иаков]: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись (Быт.32:4-8).
Из чего следует, что в случае утраты Израиля, евреям есть куда спастись.
Если конечно их начальство их отпустит.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Сс в 20-ти томах. Том 14. М., 1972 г.
2025-06-27 01:50 papalagi
За рубежом (1880—1881)
...За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских. Я сидел с краю компании, а рядом со мною помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрел: непременно это должен быть «скиталец» из Котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое тотчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем немецком диалекте и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с нами же и обедала. Но тут-то именно и случилось действительное чудо. Между тем как в среде русских шла оживленная беседа на тему: для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: для человекоубивства), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:
— Блягодару вас!
Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:
— Однако, брат, ты... угораздило-таки вас, mein Herr!
На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:
— Я сольдат; мы уф Берлин немного учим по-русску... на всяк слючай!
Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I усердно «учим по-немецку» и все никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь «случай» предвидят, и, конечно, не для того, чтоб читать порнографическую литературу г. Цитовича, учат солдат «по-русску». Разумеется, я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только что формулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубивства.
Проблема человека в западной философии. Москва, «Прогресс» 1988 г.
2025-06-26 23:33 papalagi
М. Шелер – Положение человека в Космосе (1928)
...Сегодня мы можем сказать, что проблема тела и души, державшая в напряжении столько веков, потеряла для нас свою метафизическую важность. Философы, медики, естествоиспытатели, занимающиеся этим вопросом, все больше соглашаются с одной основной идеей. То, что нет локально определенной субстанции души (предполагавшейся Декартом), очевидно уже потому, что ни в мозге, ни в других местах человеческого тела нет такого центрального места, где сходились бы все чувствительные нервные волокна и встречались бы все нервные процессы. Но совершенно ложно в декартовом учении и то, что психическое состоит лишь в «сознании» и связано исключительно с корой головного мозга. Детальные исследования психиатров показали нам, что психические функции, имеющие решающее значение для базиса человеческого «характера», в особенности все, что относится к жизни влечений и аффективности, этой, как мы выяснили, основной и первичной форме психического,— все это имеет физиологическую параллель в процессах, происходящих вообще не в большом мозге, а в области мозгового ствола, отчасти в центральной полости третьего желудочка, отчасти в таламусе, который как центральный коммутатор опосредует ощущения и влечения. Далее, система желез внутренней секреции (щитовидная железа, половая железа, гипофиз, надпочечник и т. д .), способ функционирования которых детерминирует жизнь влечений и эффективность, рост в высоту и в ширину, исполинский и карликовый рост, вероятно, также и расовый характер,— вся эта система оказалась подлинным местом опосредования между всем организмом, включая его облик, и той малой частью его жизни, которую мы называем бодрствующим сознанием. Именно тело в целом опять стало сегодня физиологической параллелью душевным событиям, а отнюдь не только мозг. Больше нельзя всерьез говорить о такой внешней связи душевной субстанции с телесной субстанцией, какую предполагал Декарт. Одна и та же жизнь формирует в своем «внутреннем бытии» психические образы, в своем бытии для другого — телесный облик. И пусть не ссылаются на то, что «Я» — просто и едино, тело же есть сложное «государство клеток». Современная физиология совершенно распрощалась с представлением о государстве клеток, равно как и с убеждением, что функции нервной системы соединяются только суммативно, т. е. не целостно, и строго определены — локально и морфологически — в своей исходной точке. Конечно, если считать, подобно Декарту, физический организм своего рода машиной, и при том в духе устаревшего механистического естествознания эпохи Галилея и Ньютона, ныне преодоленного уже самой теоретической физикой и химией; если, с другой стороны, подобно Декарту и всем его последователям не видеть самостоятельности и точно доказанного приоритета совокупной жизни влечений и аффектов перед всеми «сознательными» представлениями; если ограничивать всю душевную жизнь бодрствующим сознанием, не замечая мощных отщеплений от сознательного Я целых взаимосвязанных функциональных групп душевных процессов, далее, если отрицать вытеснение аффектов — и не замечать возможных амнезий целых периодов жизни, например, известных явлений расщепления самого сознательного Я,— тогда конечно, можно прийти к ложному противопоставлению: здесь — изначальные единство и простота, там — лишь множество вторично связанных между собой телесных частей и основанных только на них процессов. Это представление о душе столь же ошибочно, как и представление о физиологических процессах в прежней физиологии.
Новейший философский словарь. Минск – 1999 г. Научное издание
2025-06-26 21:46 papalagi
Этнометодология – (ethnоs – народ, method – метод, logy – исследование; буквально – «учение о том, как поступают народы») – радикальное теоретико-методологическое направление в американской социологии, принципиально переинтерпретировавшее на основе феноменологических установок и процедур культурной и социальной антропологии предмет и задачи социологии как научной дисциплины. ... Принципиально уходя от вопросов субстанциональной природы общества и не приемля как доминантную проблему условий возникновения социального порядка, Э., вслед за феноменологической социологией, актуализирует в качестве темы первостепенного внимания социологии – мир повседневности, однако делает акцент на проблеме выявления методов того, как люди создают и поддерживают друг у друга предположения о том, что социальный мир действительно носит реальный характер и является миром упорядоченным. Реализация этой целевой дисциплинарной установки потребовала выдвижения Э. семи альтернативных классическим, методологических предположений (Дж. Тэрнер) относительно природы социального мира. Исходное допущение – стремление людей во всех ситуациях взаимодействия достичь видимого согласия относительно «релевантных черт обстановки взаимодействия» (1). Это согласие может базироваться на установках, верованиях, знаниях о природе ситуации взаимодействия (2). Оно предполагает различные практики межличностного взаимодействия и соответствующие им методы конструирования, поддержания и изменения кажущегося согласия, которые могут быть как эксплицитны, так и (большей частью) имплицитны (3). Эти практики и методы обеспечиваются восприятием (постоянно создающимся и разрушающимся) того, что ситуации взаимодействия имеют упорядоченную структуру (4). Видимость согласия есть не только результат соглашения («конвенции»), но и выражение согласия каждого из участников с «правилами и процедурами» создания и разрушения этого согласия, т.е. видимое согласие предполагает «молчаливое» подразумевание ряда допускаемых всеми условий – правил взаимодействия-общения (5). Каждая ситуация уникальна в своем роде и предполагает собственное определение в согласии, которое не может быть некритически перенесено из какой-либо иной ситуации (6). Каждый раз создавая, вновь утверждая или изменяя правила для определения ситуации, втянутые в нее люди предлагают друг другу кажущийся упорядоченным и связанным мир «вне их», побуждающий их к определенным восприятиям и действиям (7). Таким образом, обнаруживается, что любая ситуация взаимодействия проблемна, что все «очевидности» являются результатом постоянных усилий людей по их поддержанию, т.е. по созданию общего смысла, что каждый раз реально люди имеют дело с переходящими друг в друга ситуациями, по поводу которых люди и могут «договориться». Таким образом социокультурная реальность понимается в Э. как поток неповторимых (уникальных) ситуаций, схватываемых и конституируемых (определяемых) в человеческих практиках, прежде всего мыслительных и коммуникативных, редуцируемых в Э. в большинстве случаев к речевому повседневному общению. Отсюда делается кардинальный для судеб социологии вывод Э. – социальный порядок является не субстанционально «положенным» и не «предзаданным» социокультурными механизмами (ценностями, нормами, институтами и т.д.), а каждый раз конституируемым благодаря способности индивидов постоянно создавать и разрушать совокупность представлений в каждой отдельной ситуации взаимодействия и находить «методологическое» согласие в процедурах понимания, рефлексии и интерпретации в речевом (в пределе) общении по поводу легитимизации этого «социального порядка». Отсюда проистекает предельная радикализация феноменологической ориентации в социологии – с точки зрения Э., речь должна идти не о различении конструктов первого и второго порядков (вычлененных из мира повседневности и созданных на их основе), а о принципиальном единстве методов «профанов» и «спецов», задающимся общим пониманием пути, который необходимо пройти, чтобы, достигнув согласия, утвердиться в существовании «во вне» реальности. Разница лишь в том, что «спец» (социолог) призван выполнить при этом особую миссию – эксплицировать имплицитно встроенные в интерпретационные взаимодействия людей общие правила-методы-схемы. Таким образом, непосредственный предмет социологии в Э. задается как исследование процедур интерпретаций и нерефлексированных механизмов, делающих возможным понимание в коммуникации, а следовательно и саму эту коммуникацию.
...По сути, вопрос ставится о том, как в ходе коммуникации мы способны представить значения своих индексных суждений в терминах объективных признаков, приписываемых реальности «вне нас», – ведь социальный порядок поддерживается нашей способностью убедить друг друга в его существовании, нашим общим «видением».
...В конкретных этнометодологических исследованиях было, в частности, показано, что содержание решения (судьи, например) существует ранее, чем решение принимается. То же относится к ставимому диагнозу (например, психиатром). Точно так же текст приобретает осмысленность только тогда, когда уже известен «правильный» подход к нему. В дальнейшем разворачиваются лишь процедуры ретроспективного и контекстуального определения этого решения, диагноза, прочтения, выявление оснований, делающих их «правильными». Рефлексия предполагает «знание» исходной точки начала движения (от непроявленного смысла) и предполагаемого конечного продукта (эксплицированного смысла или порядка отношений различных значений). Объективные суждения суть лишь инструмент и метод преодоления уникальности конкретных ситуаций, приписывания им наших значений и смыслов, т.е. унификации и типизации ситуаций и объективизации своих описаний в качестве квазикатегорий.
Юм (Hume) Дэвид (1711-1776) – британский дипломат, историк, философ, публицист эпохи Просвещения. ... Ю. придумал и ввел в научный оборот понятие «философская интоксикация», значимое в психотерапевтической диагностике.
Вопросы философии и психологии. Год XVI. Книга V (80). Ноябрь-декабрь 1905 г.
2025-06-26 18:09 papalagi
Учение Б. Н. Чичерина о сущности и смысле права. – Кн. Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920)
Въ свободѣ Чичеринъ видитъ съ одной стороны сущность права, а съ другой стороны его идеальную задачу, цѣлъ. Намъ предстоитъ здѣсь прежде всего разобраться въ сужденіяхъ нашего философа о сущности права.
Слово „право", говоритъ онъ, „понимается въ двоякомъ значеніи: субъективномъ и объективномъ. Субъективное право опредѣляется какъ нравственная возможность, или иначе, какъ законная свобода что-либо дѣлать или требовать. Объективное право есть самый законъ, опредѣляющій эту свободу. Соединеніе обоихъ смысловъ даетъ намъ общее опредѣленіе: право есть свобода, опредѣляемая закономъ. И въ томъ, и въ другомъ смыслѣ рѣчь идетъ только о внѣшней свободѣ, проявляющейся въ дѣйствіяхъ, а не о внутренней свободѣ воли; поэтому полнѣе и точнѣе можно сказать, что право есть внѣшняя свобода человѣка, опредѣляемая общимъ закономъ“.
...Послѣдовательно проведенный эмпиризмъ неизбѣжно долженъ привести къ разрушенію самой идеи права. Онъ вращается въ области условнаго, относительнаго: поэтому ему чуждо самое понятіе реальнаго субъекта—носителя безусловной цѣнности. Съ точки зрѣнія эмпириковъ, говоритъ Чичеринъ, „мы сущностей вовсе не знаемъ; мы познаемъ только явленія, а явленія не даютъ намъ ничего, кромѣ ряда состояній, связанныхъ закономъ послѣдовательности. Таковы заключенія, которыя выводятся изъ односторонняго опыта, отвергающаго всякія метафизическія начала. Еслибы это было вѣрно, то, конечно, нельзя было бы говорить о человѣческой личности, а съ тѣмъ вмѣстѣ нечего было бц говорить ни о правѣ, ни о нравственности, которыя предполагаютъ это понятіе, какъ нѣчто дѣйствительно реальное, а не какъ призракъ воображенія. Измѣняющемуся ряду состояній невозможно присвоить никакихъ правъ, и нельзя предъявлять ему никакихъ нравственныхъ требованій. При такомъ взглядѣ всѣ общественныя науки разрушаются въ самыхъ своихъ основахъ".
Было бы ошибочно отождествлять понятіе субъекта права съ субъектомъ какъ сущностью, т.-е. реальной личностью; въ этомъ мы уже неоднократно имѣли случай убѣдиться. Но безъ признанія реальной личности, отличной отъ измѣнчивыхъ эмпирическихъ состояній, никакія права не имѣли бы оправданія и смысла. Какой смыслъ могутъ имѣть права умершаго, если мы не признаемъ за нимъ такой безотносительной цѣнности, которая не зависитъ отъ его эмпирическихъ состояній, переживаетъ его какъ Физическое существо? Чѣмъ оправдываются права лицъ предполагаемыхъ, не родившихся, ожидаемыхъ въ будущемъ, если мы не признаемъ никакихъ цѣнностей за предѣлами эмпирически существующаго, если мы не уважаемъ человгъка независимо отъ его частныхъ, случайныхъ проявленій въ пространствѣ и времени! Это же уваженіе къ человѣку служитъ единственнымъ оправданіемъ правъ всевозможныхъ искусственныхъ лицъ,—корпорацій, обществъ и учрежденій, которыя всѣ безъ изъятія существуютъ ради человѣка. Человѣкъ есть та безусловная цѣнность, тотъ безусловный субъектъ права, ради котораго надѣляются правами всѣ прочіе субъекты, заслуживающіе уваженія лишь условнаго.
Безусловное значеніе можетъ имѣть только то, что не зависитъ отъ мѣняющихся условій времени. Признавать за человѣческою личностью безусловное достоинство—значитъ предполагать, что она есть нѣчто постоянное, нѣчто такое, что пребываетъ въ потокѣ явленій. Чичеринъ справедливо видитъ въ этомъ необходимое предположеніе права. „Личность,— говоритъ онъ,— не есть только мимолетное явленіе, а извѣстная, постоянно пребывающая сущность, которая вытекающія изъ нея дѣйствія въ прошедшемъ и будущемъ признаетъ своими, и это самое признается и всѣми другими. Но этимъ самымъ личность опредѣляется, какъ метафизическое начало. Права и обязанности личности превращаются въ чистѣйшую безсмыслицу, если мы не признаемъ единства личности, если она сводится для насъ къ ряду мѣняющихся состояній".
...Наше тѣло измѣняется въ своемъ составѣ, находится въ безпрерывномъ процессѣ траты и обновленія: поэтому стать на матеріалистическую точку зрѣнія — значитъ признать, что въ человѣкѣ нѣтъ ничего постояннаго, пребывающаго. Съ этой точки зрѣнія „человѣкъ есть то, что онъ ѣстъ", т.-е. аггрегатъ безпрерывно разлагающагося вещества. Единственно послѣдовательный выводъ отсюда—тотъ, что въ человѣкѣ нѣтъ ничего заслуживающаго уваженія. Когда матеріалисты говорятъ о человѣческомъ достоинствѣ или о „правахъ человѣка", то это въ ихъ устахъ—не болѣе, какъ благородная непослѣдовательность. Только признаніе въ человѣкѣ духовнаго начала можетъ положить твердую, незыблемую грань между лицами и вещами.
Къ числу необходимыхъ предположеній права Чичеринъ относитъ и свободу воли. Вслѣдствіе этой свободы нашей воли „ей приписываются права, то-есть власть распоряжаться своими дѣйствіями и присвоенными ей Физическими предметами. Въ этомъ заключается коренной источникъ права; животныя правъ не имѣютъ".
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Сс в 20-ти томах. Том 14. М., 1972 г.
2025-06-26 00:26 papalagi
За рубежом (1880--1881)
Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень бесцельного мелькания на все то время, покуда будет длиться искус животолюбия.
Но, во-первых, чтоб выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо, прежде всего, быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обусловливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо, во время процесса самосохранения, всякая забота, всякое напоминовение о покинутом деле и даже «мышление» вообще — считаются не kurgemaess * и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь.
Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто (культурно-интернациональные дамочки, кокотки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее—декольте, в будущем— тоже декольте. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтоб иметь законный повод по пяти раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если бог наградил ее хоть какою-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, — и та заранее разочтет, какое положение ей следует принять во время питья Kraenchen, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым ассигнациям, оба нумера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые тем не менее подчиняли себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, «дамочки» — статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит.
Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий, в виду Юнгфрау, о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко.
* несообразными с лечением.
...В-третьих, наконец, культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднолюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднолюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе,— и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господа, господа!
...Но если бы и действительно глотание Kraenchen, в соединении с ослиным молоком, способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаючи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтоб не спросить себя: ежели все мы, культурные люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики?
...Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека (конечно, я разумею исключительно культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой — на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие — что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества — и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И всякий требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему довольствуются ранами и скорпионами.
из примечаний
...Печаталось «За рубежом» первоначально в «Отечественных записках»: 1880 г., №№ 9—11, и 1881 г., №№ 1, 2, 5 и 6. Пауза в публикации, приходящаяся на №№ 3 и 4 журнала за 1881 г. произошла, по-видимому, по инициативе самого Салтыкова и редакции журнала, в связи с событием 1 марта, убийством народовольцами Александра II.
...Поэтому, когда Салтыков впервые прикоснулся в очерке 1862 г. «Глупов и глуповцы» к материалу иностранной жизни, он подчинил этот материал теме о соотечественниках за границей. Созданный в очерках сатирический образ русского «дикого помещика», попавшего в Европу, Салтыков сопроводил замечанием: «Надобно видеть глуповца вне его родного логовища, вне Глупова, чтобы понять, каким от него отдает тлением и смрадом». Вскоре эта тема получает дальнейшее развитие.
...«Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина»,— продолжает он свои впечатления, подчеркивая при этом, что «самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный». «Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства»,— формулирует писатель с беспощадной лаконичностью и простотой суждение русских путешественников, обсуждающих вопрос «для чего собственно нужен Берлин», и в подтверждение такой формулировки резюмирует итог собственных своих наблюдений: «...вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточено в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название «Главный штаб...».
...«Всегда эта страна,— пишет Салтыков,— представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительское озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадочною, не выработав самостоятельных форм общежития».
...В связи со сказанным необходимо, однако, сделать одно замечание. В русской публицистике эпохи 70-х — начала 80-х годов слово «пролетариат» еще редко применялось в его научном значении, установленном Марксом,— класс наемных рабочих в капиталистическом обществе. Гораздо чаще оно означало вообще лиц, не имеющих собственности, ближайшим же образом лишенных земельной собственности крестьян и мещан. Таково в основном значение слова «пролетариат» и в том знаменитом месте из главы I «За рубежом», столь часто цитируемом без учета изложенного обстоятельства, где, споря с народниками, Салтыков пишет: «И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом, прежде всего, забывают, что существует громадная масса мещан, которая исстари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане...» Очевидно, что здесь имеется в виду еще не пролетариат как класс в научном смысле слова, а та социальная среда, из которой рекрутировались его кадры в России, в период утверждения в ней промышленного капитализма.
Но необходимое уточнение не колеблет очевидного и давно констатированного факта: Салтыков полемизирует здесь с народническими теоретиками, с их верой в возможность непосредственного перехода — минуя капитализм и «язву пролетариатства» — к социалистическому строю через крестьянскую общину. Народническим взглядам на общину Салтыков противопоставляет свои реалистические наблюдения и выводы, относящиеся к современной форме этого исторического института русской народной жизни. Салтыков спрашивает: «Что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?» И отвечает со всей определенностью, что современная община обеспечивает прежде всего именно интересы «мироедов», Колупаевых и Разуваевых, а также фискальные интересы государства, являясь в руках властей дешевым и удобным средством для сбора налогов по принципу круговой поруки.
...Кроме полемики с народниками, другой остро-проблемной особенностью русского материала «За рубежом» является вопрос о революции (крестьянской, т. е. буржуазно-демократической по своему объективному смыслу). Вопрос этот стоял на череду того исторического момента в жизни России, которым рождена книга и в ракурсе которого ее следует воспринимать. Это был короткий, но крайне динамичный период нового и резкого обострения общественно-политической борьбы, нового подъема «волны революционного прибоя», когда в России сложилась вторая после эпохи крестьянской реформы, революционная ситуация.
Возможность революционного разрешения кризиса самодержавия на рубеже 70—80-х годов признавалась (с весьма разным, конечно, отношением к такой перспективе) представителями всех политических лагерей, общественных направлений и групп — от наносивших террористические удары деятелей «Народной воли» до царя и его министров. Большие и радостные надежды на русскую революцию питали социалистические демократы Запада, в том числе К. Маркс и Ф. Энгельс.
12 июня 1879 г. военный министр Д. А. Милютин записал в своем дневнике: «По возвращении из Крыма я нашел в Петербурге странное настроение; даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово «конституция». Никто не верует в прочность существующего порядка вещей».— «Дневник Д. А. Милютина». Ред. и примеч. П. А. Зайончковского, т. 3, стр. 148.
...Взгляд русского мальчика, изложенный Салтыковым, был близок взглядам великого выразителя «мужичьих интересов» Толстого. «Если русский народ,— записал он в Дневнике 3 июля 1906 г.,— нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы — цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать» (Л. Н. Толстой, Полное собр. соч., т. 55, стр. 233). И еще — в записи слов Толстого, сделанной Д. П. Маковицким: «Это одна из тех вещей — мечта, которую не напишу: как там, на Западе, люди — рабы своих же законов, меньше свободны, чем в России...» (Д. Маковицкий, «У Толстого». Запись в дневнике от 15 ноября 1907 г.— Рукопись, Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве).
...Предвидя наступление новой и жесточайшей реакции, Салтыков создает один из наиболее мрачных и жестоких своих шедевров «Разговор свиньи с правдой». Образ «Торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» «правду», стал в творчестве писателя и во всей русской литературе одним из сильнейших воплощений всякой политической и общественной реакции, в какое бы время и на какой бы национальной почве она ни свирепствовала.
...Ясен и смысл молчания бывшего «мальчика без штанов» в ответ на недоуменный вопрос о судьбе его недавнего, столь решительно заявленного намерения свести счеты с Колупаевым. Оно свидетельствует о крахе, в изменившейся политической обстановке, имевшихся недавно надежд на радикальные перемены в стране. Вместе с тем откат волны революционного прибоя обнажил и нечто такое, что раньше было полускрыто и сознавалось с меньшей отчетливостью. Порядок буржуазных отношений, складывающихся в стране, отягощенной множеством крепостнических пережитков, с населением, в массе своей находившимся на чудовищно низком уровне экономического достатка и культурного развития, сулил людям труда в России гораздо большую зависимость от капиталистической эксплуатации и большие страдания, чем это знала современность Запада. По-видимому, именно в таком смысле следует понимать признание бывшего «мальчика без штанов», что его подчиненность Разуваеву, независимо от наличия или отсутствия «контракта» с ним, будет, пожалуй, «крепче», «надежнее», чем у его западноевропейского коллеги — материально обеспеченного, социально более зрелого и политически грамотного «мальчика в штанах».
...ибо нынче и у нас в Петербурге ... вольно! — Указание на так называемую «диктатуру сердца» — политику графа М. Т. Лорис-Меликова, назначенного в феврале 1880 г. (после взрыва в Зимнем дворце, произведенного С. Н. Халтуриным) начальником Верховной распорядительной комиссии, а после ее ликвидации, в августе того же года, министром внутренних дел и шефом жандармов (что не означало ликвидации «диктатуры»). Считая недостаточными одни административно-судебные меры в борьбе с революционным движением, Лорис-Меликов ослабил систему политических репрессий и цензурного гнета, уволил в отставку наиболее непопулярных реакционных министров, наметил ряд либеральных реформ и пытался привлечь к разработке их представителей прогрессивной и даже радикальной общественности, в частности, Салтыкова. Политика «диктатуры сердца» продолжалась до событий 1 марта 1881 г. После издания Александром III манифеста об укреплении самодержавия Лорис-Меликов и его либеральные коллеги вышли в отставку.
...около каждого «обеспеченного наделом».— Иронически цитируется термин из официальных документов по проведению реформы 19 февраля 1861 г. Реформа эта, признавшая всю землю, находившуюся в пользовании «барских крестьян», собственностью помещиков, обязывала последних «обеспечить крестьян наделом земли». «Наделы», которыми крестьяне не могли прокормиться, должны были выкупаться ими по ценам, намного превышающим действительную стоимость земли.
...Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую...— Летом 1880 г., как раз в момент отъезда Салтыкова за границу, в ряде газетных статей было раскрыто дело о расхищении высшими чиновниками империи казенных земель в Уфимской и Оренбургской губерниях. Огромные хищения эти (преимущественно земель с ценным корабельными лесом) были произведены в бытность П. А. Валуева с 1872 по 1877 г. министром государственных имуществ. Дело получило широкую огласку, приковало к себе на ряд месяцев исключительное внимание печати и вынудило Лорис-Меликова назначить сенаторскую ревизию. Уже вернувшись из-за границы, Салтыков писал П. В. Анненкову по поводу предстоящей ревизии, порученной сенатору М. Е. Ковалевскому, с которым был близко знаком: «Выплыло нечто ужасное. Из 420 тысяч десятин казенных оброчных статей осталось налицо только 18 десятин. Остальное все роздано... Это одно из самых крупных событий, и ужасно любопытно, успеют ли его проглотить и скомкать, или же ему суждено иметь развитие» (письмо от 18 октября 1880 г.).
Проблема человека в западной философии. Москва, «Прогресс» 1988 г.
2025-06-25 18:39 papalagi
М. Шелер – Положение человека в Космосе (1928)
...Отсюда мы видим две возможности понимания духа, которые играют фундаментальную роль в истории идеи человека. Первая из этих теорий, развитая греками, приписывает самому духу не только силу и деятельность, но и высшую степень власти и силы — мы называем ее «классической» теорией человека. Она входит в общее миросозерцание, согласно которому изначально существующее и неизменяемое процессом исторического становления бытия «мира» (Космос) устроено так, что высшие формы бытия от божества до materia bruta * суть всякий раз более сильные, мощные, то есть причиняющие виды бытия. Высшей точкой такого мира оказывается тогда духовный и всемогущий Бог, то есть Бог, который именно благодаря своему духу также и всемогущ. Второе, противоположное воззрение, которое мы будем называть «отрицательной теорией» человека, представляет обратное мнение, что сам дух — поскольку вообще допускается это понятие — как минимум вся «культуросозидающая» деятельность человека, то есть и все моральные, логические, эстетически созерцающие и художественно формирующие акты только и возникают исключительно благодаря этому «нет».
Я отвергаю обе теории. Я утверждаю, что, хотя благодаря этому отрицательному акту и происходит насыщение энергией изначально бессильного духа» состоящего лишь в группе чистых «интенций»» но дух «возникает» прежде всего не благодаря этому.
* грубая материя (лат.).
...Основное заблуждение, из которого возникает «классическая» теория человека, глубоко, принципиально связано с образом мира в целом: оно состоит в предположении, что этот мир, в котором мы живем, изначально и постоянно упорядочен так, что формы бытия чем они выше, тем больше возрастают не только в ценности и смысле, но и в своей силе и власти.
Итак, считают ли, с одной стороны, что всякая более высокая форма бытия — например, жизнь относительно неорганического, сознание относительно жизни, дух относительно дочеловеческих форм сознания в человеке и вне человека — генетически возникает из процессов, относящихся к низшим формам бытия (материализм и натурализм),— либо, наоборот, предполагают, что высшие формы бытия суть причины низших, например, что имеется какая-то жизненная сила, деятельность сознания, изначально могущественный дух (витализм и идеализм) — то и другое представляется нам в равной степени большим заблуждением. Если отрицательная теория ведет к ложному механистическому объяснению универсума, то классическая — к несостоятельности так называемого «телеологического» миросозерцания, господствующего во всей теистической философии Запада. Ту же мысль, которую я уже защищал в моей «Этике», недавно очень метко выразил Николай Гартман: «Высшие категории бытия и ценности — изначально более слабые».
Поток деятельных сил, который один только способен полагать тут-бытие и случайное так-бытие, течет в мире, где мы обитаем, не сверху вниз, но снизу вверх! С самой гордой независимостью стоит неорганический мир с его закономерностями— лишь в немногих точках он содержит нечто вроде «живого». С гордой независимостью противостоят человеку растение и животное, причем животное гораздо больше зависит от существования растения, чем наоборот. Животная ориентация жизни означает отнюдь не только достижение, но и потерю сравнительно с растительной ориентацией, ибо у нее больше нет того непосредственного сообщения с неорганическим, которое есть у растения благодаря его способу питания. Аналогичным образом в такой же независимости по отношению к высшим формам человеческого существования выступает в истории масса как таковая с закономерностью ее движения. Кратковременны и редки периоды расцвета культуры в человеческой истории. Кратковременно и редко прекрасное с его хрупкостью и уязвимостью.
...Следовательно, самое могущественное, что есть в мире, это «слепые» к идеям, формам и образам центры сил неорганического мира как нижние точки действия этого «порыва». Согласно широко распространяющемуся представлению нашей нынешней теоретической физики, эти центры в своих взаимоотношениях друг с другом, вероятно, вообще не подчиняются какой-то онтической закономерности, а подлежат только случайной закономерности статистического характера. Лишь живое существо, благодаря тому, что органы его чувств и их функции в большей мере указывают на регулярные, чем на нерегулярные процессы, вносит в мир ту «природную закономерность», которую затем вычитывает из него рассудок. Не закон стоит за хаосом случайности и произвола в онтологическом смысле, но хаос царит за законом формально-механического характера. Если бы пробило себе дорогу учение о том, что все природные закономерности формально-механической структуры в конечном счете имеют лишь статистическое значение и что все природные процессы (в том числе и в микросфере) получаются из взаимодействия произвольных силовых единиц, то вся наша картина природы претерпела бы колоссальное изменение. Истинными онтическими законами оказались бы тогда так называемые гештальт-законы, т. е. законы, предписывающие определенную временную ритмику событий и независимые от нее определенные статические образы (Gestalten) телесного тут-бытия*. Так как в пределах жизненной сферы, как физиологической, так и психической, имеют силу лишь законы типа гештальт-законов (хотя и не обязательно только материальные законы физики), то благодаря этому представлению закономерности природы снова обрели бы строгое единство. Тогда была бы возможной формализация понятия сублимации применительно ко всем событиям в мире. Сублимация имела бы тогда место в каждом процессе, благодаря которому силы низшей сферы бытия в процессе становления мира постепенно ставились бы на службу более высокой формы бытия и становления — как, например, силы взаимодействия электронов ставятся на службу атомной структуре (Atomgestalt), а силы, действующие в неорганическом мире,— на службу структуре жизни. Становление человека и духа следовало бы тогда рассматривать как последний до сих пор процесс сублимации природы, выражающийся одновременно во все большем предоставлении воспринятой организмом внешней энергии самым сложным процессам, какие мы только знаем,— процессам возбуждения коры мозга, и в аналогичном психическом процессе сублимации влечения как переключении энергии влечения на «духовную» деятельность.
Новейший философский словарь. Минск – 1999 г. Научное издание
2025-06-25 16:18 papalagi
Эмпедокл из Акраганта, Сицилия (490/487/482-430/ 424/423) – древнегреческий философ, врач, жрец и чудотворец, оратор и государственный деятель, почитался учениками как божество. ... Космогония Э. в целом носила натуралистический характер: оболочка космоса – затвердевший эфир, огненные звезды прикреплены к небесному своду в отличие от планет, свободно парящих в пространстве. Космос – лишь небольшой фрагмент Вселенной, остальное – необработанная материя.
Эпикур (341-270 до н.э.) – древнегреческий философ-моралист эпохи эллинизма, афинянин по происхождению. ... Согласие с чувственными восприятиями и с основанными на них общими представлениями – подлинный критерий истинности знания. Познание природы, философские искания – не самоцель, они освобождают людей от суеверия, страха перед смертью и религиозных предрассудков. Это является необходимой предпосылкой обретения человеком счастья и блаженства, в основании которых лежит духовное удовольствие – более устойчивое нежели простые чувственные удовольствия, т.к. не зависит от внешних обстоятельств. Разум людей – бескорыстный дар богов, полагающий приведение человеческих устремлений к согласию. Результат последнего удовольствие вкупе со спокойствием и невозмутимостью, не нарушаемыми никакими неприятными эмоциями. Именно сочетанием этих душевных качеств и достигается подлинное благочестие, более ценное для человека чем деятельность. К общественности (культовым традициям и государственным учреждениям), по Э., необходимо относиться дружественно и сдержанно («Живи уединенно!»).
Эпистемология (греч. episteme – знание, logos – учение) – философско-методологическая дисциплина, в которой исследуется знание как таковое, его строение, структура, функционирование и развитие. Традиционно отождествляется с теорией познания. Однако в неклассической философии может быть зафиксирована тенденция к различению Э. и гносеологии, которое основано на исходных категориальных оппозициях. Если гносеология разворачивает свои представления вокруг оппозиции «субъект-объект», то для Э. базовой является оппозиция «объект – знание». Эпистемологи исходят не из «гносеологического субъекта», осуществляющего познание, а скорее из объективных структур самого знания. Основные эпистемологические проблемы: Как устроено знание? Каковы механизмы его объективации и реализации в научно-теоретической и практической деятельности? Какие бывают типы знаний? Каковы общие законы «жизни», изменения и развития знаний? При этом, механизм сознания, участвующий в процессе познания, учитывается опосредовано, через наличие в знании интенциональных связей (номинации, референции, значения и др). Объект при этом может рассматриваться как элемент в структуре самого знания (идеальный объект) или как материальная действительность отнесения знаний (реальность).
...В 1970-х Поппер дал онтологическое обоснование эмансипации Э., выдвинув концепцию «третьего мира» (объективного содержания знания) и «познания без познающего субъекта».
Эрн Владимир Францевич (1882-1917) – русский философ и публицист. ... Таким образом, логизм строит динамичную теорию познания, в которой ее ступени соответствуют напряжению воли субъекта, степени его устремленности к Истине (лестница Богопознания), и противопоставляет ее традиционной европейской модели. Наконец, еще один коренной порок философии Нового времени, также обусловленный ее акцентом на рацио, – имперсонализм. Личностное начало для нее не существует, оно иррационально. Рациональное мыслится вне категории личности, господство «вещи» приводит к утрате «свободы». Логизм же, признавая тезис о том, что философское знание возможно лишь как укорененное в трансцендентном божественном Разуме, настаивает на том, что последний одновременно имманентен всему и пронизывает сущее своими творческими энтелехиями-энергиями. В философе философствует нечто сверхличное, но мысль получает свое истинное бытие не от некоей внешней ей данности (как «чистое восприятие» или «факт научного знания»), а в осознании субъектом своей сверх-фактической, сверхпсихологической, сверх-человеческой природы. В логизме «Бог – Личность, Вселенная – Личность, Церковь – Личность, Человек – Личность». В тайне своего бытия человек постигает модус существования Бога и мира. В европейской культуре противостоят друг другу, согласно Э., не столько Восток и Запад, сколько два различных начала: объективно-божественный Логос и субъективно-человеческий разум, редуцированный к рассудку; онтологизм и меонизм; персонализм и имперсонализм; «органичность», целостность, направленность «внутрь» и «критичность», системность, направленность «во вне».
Удивительно точное выражение сути ностальгии по СССР
2025-06-25 14:08 papalagi
"Это тоска не по прошлому, а по несбывшемуся будущему."
Отсюда
Вопросы философии и психологии. Год XVI. Книга V (80). Ноябрь-декабрь 1905 г.
2025-06-25 11:52 papalagi
Аксиомы философии. – Лопатин Лев Михайлович (1855-1920)
...Возьмем аксиому внешнего мира, или нашу веру во внешний мир. В какой-нибудь внешний мир непременно верит каждый человек; невозможно со всею серьезностью выдержать и провести до конца убеждение, что, кроме меня и моих субъективных состояний, никого и ничего на свете нет, — об этом уже достаточно пришлось говорить в предыдущих главах. И тем не менее как поразительно различны человеческие представления о внешней действительности! Как не похожи взгляды на внешний мир дикаря и человека культурного. И, в свою очередь, у культурных людей как бесконечно разнообразны толкования одной и той же веры. Для картезианца во внешних вещах нет ничего, кроме пространства, для монадологиста в них нет никакого пространства; для материалиста в них нет ничего, кроме материи, для энергетиста — ничего, кроме энергии. Сторонник заурядного натурализма отожествляет всю внешнюю реальность с бесчисленными телесными атомами, рассыпанными в необозримо огромном пространстве, — напротив, последователь Берклея думает, что вне его существуют только другие подобные ему духи и бесконечный Бог, созерцающий в себе чисто идеальную картину вселенной и уделяющий отдельные отрывки этой картины сознанию конечных духовных тварей. Между тем все эти люди какой-то свой внешний мир признают. Что есть однородного в их признании и как формулировать их общую веру? И как провести рубеж между тем, что в их убеждениях есть одинакового, и тем, что каждый из них вносит на свой страх в свой умственный обиход? А ведь это непременно нужно сделать: только тогда мы будем знать, что есть действительно аксиоматического в этой неуловимой пестроте воззрений. Пускай верование, о котором вдет речь, в своем естественном и непосредственном виде смутно и обще: мы его прежде всего должны формулировать именно таким, каково оно есть, во всей его смутности и общности. Лишь тогда мы будем знать, что в нем нужно уяснить, оправдать и оценить. И наоборот, если мы вместо его действительного содержания подставим свою собственную рациональную формулу, продиктованную предпосылками ранее усвоенного нами мировоззрения, мы будем иметь не его, а нечто совсем другое.
...Например, аксиома внешнего мира или аксиома существования чужого сознания находят свою логическую опору и рациональное обоснование в принципах причинности и субстанциальности и без них едва ли могли бы претендовать на объективную логическую достоверность. Тем не менее и их можно рассматривать как аксиомы, ввиду их безусловной общепризнанности и ввиду тех наглядных, гнетущих и для ума невместимых несообразностей, к которым приводит их совершенное и до конца последовательное отрицание, хотя при логическом раскрытии этих несообразностей мы не обойдемся без помощи других аксиом и принципов. По этому поводу приходится сделать важное замечание: аксиомы философии не представляют из себя чего-нибудь абсолютно разрозненного, — напротив, они тесно связаны между собою и предполагают друг друга *. И тем не менее каждая из них обладает своим особым содержанием и пользуется общепризнанною убедительностью как таковая. Эта убедительность для большинства умов остается совершенно непосредственною и, так сказать, интуитивною. Но для философа ставится задача возвести ее в свет ясной мысли во всей полноте ее логических мотивов. Лишь тогда в общепризнанных истинах действительно выделится очевидное от только вероятного, а также и от таких предположений, которые, может быть, и верны сами по себе, но все же не коренятся в самоочевидных началах нашей мысли.
В таком уяснении, точном и адекватном выражении и всестороннем обосновании и оправдании общепризнанных истин разума о вещах заключается одна из существеннейших задач онтологии, т.е. той части философии, в которой исследуются наиболее общие и основные понятия и принципы нашего миропонимания. И действительно, подобную задачу умозрительная онтология всегда себе ставила и посильно решала. И если тем не менее указываемая проблема до сих пор не нашла себе решения полного и окончательного, — в этом отчасти можно видеть убедительное доказательство ее трудности, отчасти признак того, какую огромную роль в приговорах философов играют их предвзятые взгляды.
* Так, аксиома субстанциальности подразумевает аксиому причинности, а в некоторых отношениях можно сказать и обратно. Обе они подразумевают аксиому тожества. Аксиома внешнего мира предполагает аксиому чужого одушевления как свой наиболее убедительный ингредиент. И, с другой стороны, нельзя верить в существование других одушевленных тварей, не предполагая существования некоторой среды, независимой от нас и общей у нас с ними и т. д.
Валерий Сергеевич Золотухин (1941--2013) Знаю только я (2012)
2025-06-25 08:10 papalagi
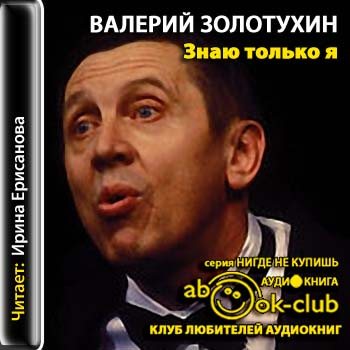
Жанр: Мемуары
Издательство: Нигде не купишь
Исполнитель: Ирина Ерисанова
Продолжительность: 18:38:53
Книга народного артиста России Валерия Золотухина построена на основе его дневников, которые актер ведет на протяжении всей своей жизни. По сути это - "театральный роман", охватывающий три с половиной десятилетия. Среди персонажей - Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Анатолий Эфрос, Леонид Филатов, Николай Губенко, Алла Демидова, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина - те, без кого немыслимо представить русскую культуру XX века.
ссылка
Проблема человека в западной философии. Москва, «Прогресс» 1988 г.
2025-06-25 01:05 papalagi
М. Шелер – Положение человека в Космосе (1928)
...Если мы захотим глубже проникнуть отсюда в сущность человека, то нужно представить себе строение актов, ведущих к акту идеации. Сознательно или бессознательно, человек пользуется техникой, которую можно назвать пробным устранением характера действительности. Животное целиком живет в конкретном и в действительности. Со всякой действительностью каждый раз связано место в пространстве и положение во времени, «теперь» и «здесь», а во-вторых, случайное так-бытие (So-sein), даваемое в каком-нибудь «аспекте» чувственным восприятием. Быть человеком — значит бросить мощное «нет» этому виду действительности. Это знал Будда, говоря: прекрасно созерцать всякую вещь, но страшно быть ею.
Новейший философский словарь. Минск – 1999 г. Научное издание
2025-06-24 21:39 papalagi
Эллюль (Ellul) Жак (1912-1994) – французский философ и социолог, профессор университета в Бордо. ... Трактует технику не только как совокупность машин и механизмов, но и как определенный тип рациональности, свойственный техногенной цивилизации. В условиях этой цивилизации техника, созданная как средство подчинения природной среды человеком, сама становится сплошной средой, делающей природу совершенно бесполезной, покорной, вторичной, малозначительной. В результате происходит фетишизация и демонизация техники, которая превращается в некий абсолют – Технику, Машину, порабощающих человека. В результате все компоненты человеческого бытия, включая мысли и чувственность, заполняются механическими процессами. Даже чистый свет искусства пробивается к нам сквозь толщу технических объектов, а его произведения, созданные художником, уподобляющимся роботу, по Э., становятся отражением технической реальности. Иногда искусство выступает как утешение, компенсация невыносимых сторон технической культуры, в других случаях оно слепо вторит той же технике, но всегда оно оказывается придатком к последней и во всех своих школах, во всех своих выражениях выполняет конформизирующую роль. Даже современная политика и власть, по Э., не в силах справиться с техникой и оказываются ею полностью детерминированными. Таким образом, техника превращается в фактор порабощения человека и в производстве, и в культуре, в политике, и в быту. Отсюда, согласно Э., главная задача – не отвергая техники как таковой, осуществить радикальное отвержение идеологии техники. ... Эта единственная революция, заключающаяся в захвате не власти, а позитивных потенций техники и культуры, и полной их переориентации в целях освобождения человека от всех форм порабощения, в том числе и технического, должна привести к новому качеству жизни для всех без исключения и уравнения членов общества. Это будет подлинная мутация человека – мутация психологическая, идеологическая, нравственная, сопровождающаяся преобразованием всех целей жизни. И она должна произойти в каждом человеке. Все остальные революции, направленные против эксплуатации, неравенства, империализма, колониализма, по мнению. Э., в современных условиях утратили реальное содержание и социальный смысл.
Вопросы философии и психологии. Год XVI. Книга V (80). Ноябрь-декабрь 1905 г.
2025-06-24 17:06 papalagi
Аксиомы философии. – Лопатин Лев Михайлович (1855-1920)
...В особенности я не хотел бы, не кончив, бросить спор с проф. В. И. Вернадским по одному очень существенному пункту. Проф. Вернадский в своей замечательной статье «О научном мировоззрении», убежденно настаивая на равноправности мировоззрений научного, философского и религиозного в духовной жизни человечества, признает, однако, при этом, что только в некоторых частях научного мировоззрения содержатся обязательные для всех людей и необходимо признаваемые истины; что касается философии, то в ней никаких общеобязательных положений и выводов нет, — все содержание философских систем составляет плод личного вдохновения их авторов и, стало быть, в них все субъективно.
Я не могу примкнуть к сделанной проф. Вернадским оценке и выступил в моей последней статье защитником положения, что в философии существуют общепризнанные истины. При этом я старался прежде всего показать, что выражение общепризнанная истина может иметь разный смысл. В философии нет общепризнанных истин в том смысле, чтобы в них никому и никогда нельзя было сомневаться и поднимать против них возражения и споры. Таких истин нет и в науке, — сомневаться можно и в аксиомах математики, не говоря уже об индуктивных обобщениях из конкретных фактов. При сильном желании сомневаться можно положительно во всем и даже выставлять для того правдоподобные основания. Но в философии есть общепризнанные и общеобязательные истины в том значении слова, что они, несмотря ни на какие сомнения и споры, сохраняют свою внутреннюю убедительность для каждого ума и имеют над ним такую практическую власть, что даже те, кто в них сомневается, постоянно и невольно ими пользуются как непреложными критериями всех своих суждений, когда перестают упражнять на них свой скептицизм. Доказательство необходимости этих истин для нашего разума заключается именно в невозможности по отношению к ним серьезного и до конца проведенного сомнения. Такие истины, ввиду их непосредственного убедительного характера, я назвал аксиомами философии. Это не значит, что их надо принять на веру, без критики, как некоторые раз навсегда нам открытые неподвижные догмы. Напротив, я неоднократно настаивал, что они очень нуждаются в умозрительном анализе, в осторожном установлении их действительного смысла, в их рациональном оправдании против возможных нападений скептицизма. Я привел несколько примеров таких аксиоматических истин, разделив их на две группы. К первой группе относятся истины с очень общим содержанием, которые распространяются на все понимаемое нами. Сюда принадлежат: принцип тожества (всякая вещь есть то, что она есть, а не что-нибудь другое), закон причинности (всякое действие имеет причину и всякая причина обнаруживается в действии), принцип субстанциальности (во всяком действии, явлении и состоянии что-нибудь действует, является и испытывает состояния), принцип объективности нашей мысли (что с совершенной необходимостью мыслится о каком-нибудь предмете ввиду его данных свойств и отношений, в самом деле принадлежит ему). Ко второй рубрике я отнес положения с более частным и конкретным метафизическим и психологическим смыслом. Таковы: признание нашего собственного бытия как сознающих существ; признание нашей способности действовать от себя, по собственному почину и по своей воле; признание других одушевленных существ, кроме нас, т.е. признание чужого одушевления; признание бытия внешнего мира или вообще отличной от нас и по отношению к нам самостоятельной действительности и нашей принудительной зависимости от нее.
Все перечисленные истины обнимаются одним общим признаком: каждая из них может служить образцом утверждений, в которых можно сколько угодно сомневаться на словах, но которых нельзя совсем отвергнуть. На целом ряде примеров я показал, как бесплодны были сделанные в истории философии попытки отказаться от некоторых из них. Я старался показать, далее, что, по крайней мере, по отношению к их большинству действительное отречение от них было бы полным самоуничтожением разума: такое отречение фактически немыслимо, пока мы рассуждаем и думаем.
...Субъективизм, так оправдываемый, совсем неуязвим ни для каких возражений. На самые убедительные и сильные доказательства против него он будет однообразно отвечать: все эти доказательства все-таки суть мысли и их убедительность есть убедительность мыслей, а мысль может нас обманывать. Такая неуязвимость составляет известное преимущество рассматриваемой аргументации, но она же выводит эту последнюю из ряда предметов, подлежащих философскому обсуждению. Мне уже неоднократно приходилось говорить, что не со всяким сомнением может иметь дело философия, а только с сомнением логически мотивированным. Если бессилие и призрачность человеческой мысли с логическим правдоподобием выводятся из предварительного исследования природы человеческого разума, такое выведение, конечно, имеет все права на философский суд; но если кому-нибудь просто в мысль не верится, как с таким человеком спорить? Здесь мы уже сталкиваемся с личным настроением; такой скептицизм есть явление патологическое, в иных случаях его, может быть, следует лечить, но какие-нибудь логические опровержения по отношению к нему едва ли будут целесообразны.
Попутная инфа
Жизнь Льва Михайловича была типичной жизнью философа: небогатая внешними событиями, она была наполнена преимущественно внутренней умственной работой. Философ никогда не женился и всю жизнь провёл холостяком. Жил он всегда в одном и том же доме – в родительском особняке в Гагаринском переулке, из которого никогда не переезжал и в котором тихо скончался 21 марта 1920 года в своей комнате в присутствии немногочисленных учеников и знакомых. По воспоминаниям А.И. Огнёва, последними словами философа были: «Там всё поймём». Маргарита Кирилловна Морозова (1873–1958), внесшая значительный вклад в религиозно-философское и культурное просвещение русского общества начала XX века, жена фабриканта, мецената и коллекционера М.А. Морозова, вспоминала: «Никогда не забуду, как мы собрались после его кончины в его особнячке вечером в полутемных комнатах, едва освещенных одной или двумя свечами. Его должны были положить в гроб. Но гроб невозможно было пронести по этой узенькой деревянной лесенке наверх в спальню Л.М., где он скончался. Тогда один человек без труда взял на руки его маленькое легкое тело, одетое в черный сюртук, и снес его вниз. У меня врезалось в память его откинутая назад голова, беспомощно висевшая маленькая, тонкая рука и свисавшие такие же тонкие и маленькие ноги в белых носках». Философ был похоронен на территории Новодевичьего монастыря рядом с могилой брата и недалеко от могилы В.С. Соловьёва. Ему были посвящены несколько некрологов и вышедшая в 1922 году книга А.И. Огнёва «Лев Михайлович Лопатин».
отсюда
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Сс в 20-ти томах. Том 13. М., 1972 г.
2025-06-23 21:06 papalagi
Из других редакций
Круглый год
Приличествующее объяснение (1879)
...Еще явление. В самые скорбные исторические минуты, когда сердце всякого добропорядочного и честного человека должно болеть и истекать кровью,— у нас, наоборот, просыпаются самые злые инстинкты, и изо всех щелей выползают самые вредные и пагубные элементы. И чем печальнее факт, тем сильнее дикая радость этих человеконенавистников. Они мстят за свое недавнее отчуждение, они угрожают в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий... Разъяснила ли русская печать это явление? Протестовала ли она против него?
Затем следуют: казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротства, отсутствие всякого понятия о самой формальной честности и это бесконечное, беззаветное поклонение Ваалу, одному Ваалу. Червонные валеты, Юханцевы, Гулак-Артемовские, Ландсберги — вот истинные герои современности, вот те, которым жилось хорошо, которым, по крайней мере, есть, чем помянуть прошлое! Правда, что рука прокурора достала их, но разве она достигла каких-нибудь результатов, покарав их? разве что-нибудь предупредила? Ведь не имена важны, а факты. Что породило эти факты? Откуда эта повсюдная алчность к наслаждениям наиболее грубого свойства, сопоставленная с повсюдным же равнодушием к общественному делу? Разъяснено ли все это?
Увы! все эти вопросы и великое множество других так и остаются открытыми вопросами. Печать констатирует их существование, но дальше не идет, или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться.
<«Когда страна или общество...»>
...Что такое «непомнящий родства»? — Это человек, который на все вопросы о своем далеком и близком прошлом одинаково отвечает: не знаю, не помню.— Где ты родился? — не помню.— Кто твой отец? — не знаю.— Как же ты жил? — где день, где ночь, как придется.— Где же ты, наконец, вчерашнюю ночь ночевал? — в стогу. Явление это первоначально завещано было нам той стариной, которая еще помнила выражение: «страна наша велика и обильна», и когда вследствие княжеских усобиц, а потом татарского меча приходилось искать «вольных кормов» на окраинах. В то время еще «вольные кормы» существовали. Потом это же явление усердно поддерживалось крепостным правом. Не знаю, существует ли оно теперь, но в пору моей молодости оно процветало во всей силе. Я помню еще ребенком, с каким страхом папенька и маменька выслушивали доклад о том, что там-то во ржи заметили «человека», и как принимались меры, чтоб этого «человека» не раздразнить, а как-нибудь или спровадить, или вероломным образом сцапать. Я помню также великое множество этих людей, оканчивающих свои скитания в острогах, и помню даже, что от них никакой «правды» не добивались, а только производили так называемый формальный сыск. Публиковали во всех губернских ведомостях, с объявлением «примет», подобно тому, как публиковали о пойманных лошадях. И затем, по окончании сыскных сроков,— в Сибирь.
Вот именно все это невольно приходит мне на мысль, когда я думаю о наших «баловнях фортуны». Все мне кажется, что если ему предложить серьезно вопрос: где ты вчерашнюю ночь ночевал? — то он непременно должен ответить: в стогу! Если же он ответит иначе, если скажет, что ночевал в своей квартире, то это будет наглая ложь.
А ежели он ночевал в стогу, ежели он на все вопросы о своем прошлом ничего не может ответить, кроме: где ночь, где день,— то какие же могут быть его требования от жизни? У него нет даже смутного представления об отечестве, а следовательно, не может быть и ни малейшего участия к его судьбам. У него нет ни присных, ни друзей, ни единомышленников, а следовательно, не может быть и идеи о каких-либо узах, связующих между собой людей. У него, наконец, нет вчерашнего дня, а следовательно, не может быть и уроков, завещанных прошлым. В прошедшем он помнит только стог, в котором его изловили за несколько часов перед тем и вместо того, чтоб поступить по всей строгости законов, одели в виссон и посадили под образа. В настоящем ему представляется только пирог, который чудесным образом очутился перед ним. Что же касается до будущего, то и в этом отношении ему доступно только [смутное] опасение, как бы не лишиться этого пирога. Я говорю: смутное опасение, потому что даже в этом смысле он настолько чужд всего человеческого, что не может себе с ясностью определить, откуда и в какой мере угрожает ему беда.
...Я уж не говорю о том, как все эти вероломства бесплодны, безнравственны, но, кроме того, они и беспричинны. Стоит ли вероломствовать, стоит ли торжествовать над каким-то выходцем, нечаянно пойманным в стогу? Я понимаю, что торжество человека партии, убеждения, знания, школы над человеком тоже партии, убеждения, знания и школы — должно быть лестно. В глазах восторжествовавшего это не просто личная его победа, но победа его дела, не столько плодотворная для него самого, сколько для общества. В такой победе понятно ликование и посторонних. Но ликование по поводу падения непомн<ящего> родства, на смену которому грядет другой непомнящий родства,— помилуйте! неужто это прилично?
Нет, это в высшей степени неприлично и даже просто постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их. Потому что всякий очевидец, который не может протестовать или, по малой мере, бежать за тридевять земель от этого позорного зрелища, должен сознавать себя рабом.
Больнее, унизительнее этого сознания нет ничего на всем безграничном пространстве нравственного мира...
Я знаю, мне скажут, что я повторяюсь. Что, в сущности, мои речи суть бесконечные варьяции на тему о стыде и рабьих поступках. Ну да, это правда, я повторяюсь. Я говорю о стыде, все о стыде, и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное. Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. С первого взгляда этот афоризм кажется достаточно наивным, но он наивен только по форме, а по существу в высшей степени правилен и справедлив. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствии с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем помыслить без краски стыда.
Вот почему я повторяюсь и буду повторяться. Хотелось бы, чтоб чувство стыда перешло из области утопии в действительность. Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому что иначе мыслить не может.
Постыдные явления, о которых я повел свою речь, сделались у нас так обыкновенны, что мы даже не оборачиваемся на них. Мы льстим идолу выскочившему и накладываем в шею идолу шарахнувшемуся почти бессознательно, совершая как бы обряд. Мы даже не хотим думать, что нуль равен нулю, и в оправдание свое ссылаемся только на нашу подневольность. Но это неправда. И у подневольности есть выход — это стоять в стороне, не льстить, но и не «накладывать», не петь дифирамбов, но и не кричать вдогонку: ату его! ату! И у подневольности есть оружие: она имеет возможность презирать.
Повторяю: напоминать о стыде не только полезно, но всего более в настоящее время нужно. Стыд — это своего рода учение, это целая система; разница только в том, что в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя. Взывать к стыду, будить стыд, пропагандировать, что лесть вредна, а вероломство паскудно,— помилуйте! что же тут «превратного»?
<«Говоря по правде, положение русского литератора...»>
...Главную причину того, что прежний взгляд на литературу был несколько иной, следует искать в том, что литературная профессия считалась и была профессией исключительно дворянской. Сами министры бряцали, а за ними следом безвозбранно бряцали и другие, хотя не столь высокопоставленные, но не менее гордые своим дворянским происхождением. Так что, когда явился мужичок Ломоносов и тоже изъявил желание бряцать, то и его поскорей произвели в дворяне, дабы не произошло в общем хоре какофонии. Ну, а дворянин ведь свой брат, и потому пустить ему вдогонку, например, «мерзавца» или «злоумышленника» не всегда-таки удобно. У него есть бабушки, тетеньки, кузины, которые могут обидеться за родственника. А потому, если некоторые из Ломоносовых и заблуждались, то на них смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые, по окончании курса наук в кадетских корпусах, получили вкус к заблуждениям. И в согласность с сим, старались исправить виновных домашними мерами, говорили: ну, что тебе стоит «Клеветникам России» написать? И хотя это было до крови больно, но так как тут же кстати на том же настаивали все бабушки, тетеньки и кузины, то делать не́чего, приходилось брать в руку цевницу и бряцать.
Некоторый перелом во взгляде на литературную профессию последовал в самом конце сороковых годов. В это время на Западе совершилось столько неключимостей, что невольно приходило на ум, не заразилась ли ими и русская литература. Оказалось, что заразилась. Но так как, за всем тем, и тогда литература продолжала быть профессией чисто дворянской (за малыми исключениями), то дело ограничилось только тем, что поставлены были серьезные внешние препоны собственно для вредных влияний, но все-таки никому не приходило на мысль, что название злоумышленника или мерзавца есть наиболее русскому литератору свойственное. И литература наша, к чести ее, поняла, что ей нужно оправдаться и удержать за собою свой прежний рыцарский характер.
...Но в конце пятидесятых годов дворяне оплошали, а в то же время в литературу в бесчисленном множестве вторгся разночинный элемент. Уничтожение крепостного права сказалось и тут: с осуществлением его устранился досуг. А с исчезновением досуга исчезла и возможность кюльтивировать «благородные» идеи. Даже выспренняя сторона эмансипации, та, ожидание которой заставляло трепетать и сладостно волноваться целые поколения «мечтателей»,— и та немедленно уступила место так называемому «трезвенному» отношению к делу. Не «благородные» мысли требовались, а мысли, указывающие на практический выход, открывавшие двери в область компромиссов. Словом сказать, литературную арену заполнили мысли практические, будничные, между которыми было достаточно полезных, но множество было и положительно подлых. И по какому-то необъяснимому недоразумению полезные мысли оказались «опасными», а подлые — благонадежными... хотя все-таки подлыми. Или, говоря другими словами, никто из новых литературных деятелей никакого «дворянскому званию свойственного» парения не предъявил.
Отсюда прискорбное смешение «опасного» и «подлого»; отсюда безразличное применение того или другого эпитетов, смотря по требованиям темперамента. Литература уже перестала служить убежищем «сладких звуков и молитв» и сделалась лишь досадною необходимостью, в которой всякий искал подтверждения своих, так сказать, утробных поползновений. Ежели писатель говорит в унисон тому, что думает утроба читающего,— это значит, что он писатель подлый, но полезный; ежели писатель расходится в мнениях с утробой читающего — это значит, что он писатель подлый и опасный. А так как в основании того и другого определения все-таки стоит слово «подлый», то есть не могущий ни оду на взятие Хотина на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать, то из этого выводится прямое заключение, что и полезный писатель в силу своей подлости может сделаться опасным. Стоит только хорошенько его поманить, доказать, с счетами в руках, что опасным писателем выгоднее быть, нежели полезным.
Вот почему часто приходится слышать, как мерзавцы, самые несомненные, называют литературу скопищем разбойников и мерзавцев. И, к сожалению, не менее часто случается, что сами литераторы не только не протестуют против этого, но даже помогают формулировать полуграмотные бормотания ненавистников литературы.
...Расскажу тебе историю из воспоминаний моей юности. Была у нас соседка барыня, и имела она влечение к фаворитам. Фавориты эти выбирались из дворовых и менялись довольно часто. Бывало, приедешь в Ярцево (ее усадьба) и видишь, в лакейской саженный холуй сидит — это, значит, новый фаворит. Так вот при смене этих фаворитов происходили поразительные сцены, а однажды дело даже до суда дошло. Был у этой барыни в дворне живописец один, малый талантливый, и ходил он обыкновенно по оброку, только как-то позапутался, не заплатил вовремя денег, и вызван был в деревню. Разумеется, застал холуя и вынужден был, наряду с прочими, ему льстить. Льстил долго и усиленно, льстил с сознанием собственного превосходства, и достиг наконец того, что получил право существовать и даже пользоваться некоторыми льготами. И вдруг из барыниной спальной распоряжение: фаворита — в пастухи, а пастуха — в фавориты! Надо было видеть, какая вдруг метаморфоза совершилась в живописце. Он подстерег гиганта из-за угла, ловко сшиб его с ног и начал топтать ногами. И, постепенно остервеняясь, стал бить его каблуком в лицо, так что через четверть часа гигант представлял собой бездыханную окровавленную массу. Так вот этот самый убийца на вопрос: с какого повода он так остервенился против человека, которому накануне льстил и который, в сущности, ничего, кроме благосклонности, ему не показывал,— отвечал: Помилуйте! мало ли он измывался надо мной! мало ли я сам над собой измывался, чтоб только утешить его, угодить! Ужели ж так ему это и подарить!
— Так вот оно, рабье-то дело какое! — присовокупил Глумов,— и представь себе, во время этой сцены барыня стояла у окна и смотрела, и только когда уж все кончилось, молвила: никак, он Макарку-то убил! Свяжите его да отвезите в город...

