Ormen Lange
|
Ormen Lange 2013-12-20 22:50 Сергий Сергий: Цитата (Gurga @ Дек 13 2013, 09:02) Драккары & шнеки как переводятся?. Цитата (Сергий @ Дек 13 2013, 10:58) drek|i m -a, -ar 1) дракон; 2) броненосец (корабль). orm|ur m -s, -ar 1) червь, червяк; глист; 2) змея; 3) что-л. маленькое. orma||kóngur m миф. василиск; snekkj|a f -u, -ur быстроходное судно, шнека. skip n -s, ≡ судно, корабль; http://slovarus.info/isl.php (исландско-русский словарь) Цитата (Сергий @ Дек 13 2013, 13:07) Опять же - дракар (dreki) Олафа Трюггвасона назывался "Длинный змей" (Orminum langa)... ... но русские переводчики, то и дело, называют его "Длинный дракон" Крещение княгини Ольги 2013-12-20 23:08 анатол анатол: Тут несколько другие вопросы. В 946г Ольга расправлялась с древлянами. До этого она должна была войти во власть и получить поддержку дружины. Сразу после расправы отправилась наводить порядок в хозяйстве. Так что возникает вопрос: Каким образом она могла оказаться одновременно в Новгороде (или около него) и на другом конце света? И кто правил в Киеве в это время. И уж совершенно точно оба путешествия могли проходить только без малолетнего сына. Битва трёх королей при Эль-Ксар-эль-Кебире 2013-12-21 05:24 Saygo Saygo: А.М. ХАЗАНОВ. БИТВА ТРЕХ КОРОЛЕЙ (ИЗ ИСТОРИИ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ МАРОККО В XVI В.) В основу статьи положены находки автора в архивах и книгохранилищах Порту-галии. На основе подлинных документов рассматривается история португальской ко- лонгизации Марокко в XVI в. В XVI в. маленькая Португалия владела огромной империей, в которой никогда не заходило солнце. Опытные навигаторы, ненасытные завоеватели португальцы господствовали в Бразилии, Индии, на Молуккских островах, в Африке. Но в Марокко португальские колонизаторы столкнулись с наиболее сильным сопротивлением. Обосновавшись в Сеуте в 1415 г., португальцы завладели в 1417 г. Танжером и Арсилой, а в 1458 г. - Аль-Ксар аль Кебиром. Став хозяевами стратегически важных портов, португальцы перерезали тесные связи между Марокко и арабским государством Гранада, которое в 1492 г. прекратило свое существование в результате атак войск Кастилии, которая завершила Реконкисту после семи веков непрекращавшихся битв. Что касается Португалии, то она завершила свою реконкисту на два с половиной века раньше - в 1249 г. Восшествие на престол Ависской династии привело страну к пику могущества. Однако Португалия была колоссом на глиняных ногах. Это ясно показал ход войны португальцев против марокканцев. Захватив Агадир в 1505 г., Могадор в 1506 г., Сафи в 1508 г., Аземмур в 1513 г., Мазаган в 1514 г., португальцы оставили свои гарнизоны в Мехдии и в Анфа. Испанцы, со своей стороны, оставили португальцам атлантическое побережье Марокко, обосновавшись в Риф и на островах Шаффарин. Помимо европейских конкистадоров Марокко столкнулось и с угрозой с востока: это были турки, прочно обосновавшиеся в Алжире. Они попытались вторгнуться в Марокко, но были разбиты в битве при Уед Лебан в 1568 г. Правившая в Марокко Меринидская династия всеми силами пыталась, если не отразить, то хотя бы сдерживать наступление португальских и испанских завоевателей. Наследовавшая Меринидам Саадийская династия добилась больших успехов в войне с португальцами, в руках которых к 1578 г. оставались всего лишь три марокканские крепости: Мазаган, Танжер и Сеута. Но этим крепостям с трудом удавалось отбивать атаки войск саадийского шерифа. Так, в письме Алвару де Карвалью королю Себастьяну от 8 июля 1556 г. сообщалось о «многочисленных сражениях с маврами, которые мы имели около города Мазагана» [1]. Бои за Мазаган шли очень долго. Тот же Алвару де Карвалью уведомил короля Себастьяна 18 января 1560 г. о том, что ему приходится продолжать отбивать нападения мавров, ведя с ними «перестрелки» [2]. 14 июля 1560 г. он сообщил королеве о том, что имел «сражение» с маврами [3]. 12 апреля 1561 г. Алвару де Карвалью направил королеве письмо, в котором просил срочно прислать подкрепление в Мазаган, «ввиду того, что шериф готовится атаковать этот город» [4]. Судя по документам, эти опасения имели под собой серьезные основания. Уже 22 апреля 1561 г. Алвару де Карвалью сообщил королеве о том, что мавры начали осаду Мазагана [5]. Эту осаду арабы вели долго и безуспешно. В письме от 9 апреля 1562 г. Педру Паулу Волпи уведомлял королевский двор о продолжающейся осаде Мазагана [6]. О том же сообщали в письме от 12 апреля 1562 г. Фернанду да Фонсека [7] и в письме от 18 апреля 1562 г. Педру Гузарти Коутинью [8]. Юный импульсивный и амбициозный король Себастьян рассматривал это как оскорбление и национальное унижение Португалии. Он считал, что к 1578 г. сложилась чрезвычайно благоприятная ситуация для реванша. Турецкая угроза из западной части Средиземноморья была устранена в результате битвы при Лепанто, выигранной законным сыном Карла V доном Хуаном в 1571 г. Испания сумела аннексировать Филиппины. Португалия в это время была на вершине своего могущества.  Дон Себастьян Дон Себастьян вынашивал план захвата Марокко и нового крестового похода с целью обратить в христианство народы Магриба. Удобный предлог для вторжения, который он искал, предоставила междоусобная борьба за престол между сыновьями шерифа Мухаммеда али-Шейха в Марокко. Этот шериф умер, оставив трех сыновей: Абделлаха, Абд аль-Малика и Ахмеда. В результате междоусобной войны шерифом стал старший сын - Абделлах. Он умер в 1574 г. и его престол унаследовал его сын Мохаммед. Отличаясь деспотическим и жестоким нравом, он быстро вызвал к себе ненависть своих подданных. В отличие от него его дядя Абд аль-Малик, выделявшийся государственным умом и выдающимся полководческим талантом, снискал большую славу и всеобщую любовь. Мохаммед отправил Абд аль-Малика к туркам в Стамбул, где он жил при Дворе султана Мурада I [9]. Став любимцем султана, Абд аль-Малик даже участвовал на стороне турок в морском сражении при Ла Гулетт. Это позволило ему позже получить уважение и поддержку турок. Он был поклонником турецкой системы управления и позже, став правителем Марокко, ввел административную систему, полностью скопированную с той, что существовала в Османской империи. Он был весьма образованным человеком, говорил на 5 языках (арабском, испанском, итальянском, русском и армянском). В то же время он был очень религиозным экзальтированным человеком. В 1576 г. Абд аль-Малик при поддержке турок вторгся с большим войском в Марокко, овладел троном и вынудил племянника Мухаммеда аль-Мутаваккиля бежать в Испанию. Поэтому лишенный трона аль-Мутаваккиль с остатками своего разбитого войска присоединился к португальцам, считавшим его законным правителем Марокко, рассчитывая с их помощью вернуть утерянный трон. Будучи абсолютно убежден в полном успехе своего предприятия, дон Себастьян во главе своего многочисленного войска 25 июня 1578 г. отплыл из Лиссабона и 28 июня прибыл в испанский порт Кадикс, где пробыл 10 дней [10]. В июле 1578 г. дон Себастьян с большим войском, приплывшем на флоте, состоявшим из 1200 судов, высадился в Танжере, где его ждал аль-Мутаваккиль с 300 солдатами. Абд аль-Малик, живший в Марракеше, ведя интенсивную переписку с португальским королем, пытался урезонить его, доказывая бессмысленность его предприятия. Будучи выдающимся полководцем, Абд аль-Малик очень умело руководил своими войсками. Он собрал их в Гарбе и приказал своему брату Ахмеду, жившему в Фесе, привести туда все бывшие в его распоряжении силы. Между тем дон Себастьян со всем войском ушел к Арсиле и 29 июля «разбил лагерь в месте, называемом Сладкой речкой» [11]. Тонкий психолог Абд аль-Малик решил сыграть на таких чертах характера дона Себастьяна, как тщеславие и амбициозность. Он отправляет ему новое письмо. «Я пересекаю всю страну, чтобы встретиться с тобой, а ты не делаешь мне навстречу ни шага, - пишет он. - Это недостойно рыцаря и христианина, а если ты отступишь назад к месту своей высадки, то ты всего лишь собака и сукин сын». Дон Себастьян угодил в эту искусно расставленную для него западню. Несмотря на возражения тех, кто хорошо знал о хитрости Абд аль-Малика, молодой король снялся с лагеря и 30 июля подошел к Аль-Ксар аль-Кебиру, где его поджидал саадийский шериф Абд аль-Малик с армией в 50 тыс. чел., главную силу которой составляла кавалерия. Этот бесцельный поход утомил португальскую армию. Абд аль-Малик удачно выбрал место для предстоящей битвы: Себастьян дал завлечь себя в ловушку между рекой Луккос и ее притоком аль-Махазином, не придав значения тому, что уровень воды в этих реках сильно повышается во время прилива [12] и не стал ждать, когда спадет дневная жара, тотчас начав битву. Эти ошибки стоили ему очень дорого. Португальская армия состояла почти из 120 тыс. чел., в ней было все лузитанское дворянство и многочисленные наемники из самых разных стран, марокканская армия имела почти такую же численность, но была чрезвычайно сильной и мобильной благодаря 70 000 кавалеристов, 30 000 пехотинцев, 12 000 мушкетеров и 40 артиллерийских орудий [13]. Но было одно крайне беспокоящее обстоятельство, которое могло обернуться фатальным исходом для марокканской армии: шериф Абд аль-Малик был тяжело болен. По всей вероятности и по заключению врача-еврея, который с самоотверженной преданностью ухаживал за ним до самой смерти, шериф стал жертвой отравления ядом, который кто-то добавил в его пищу, когда он ждал брата Ахмеда в Гарбе. Несмотря на страдания, он участвовал в праздновании соединения двух армий в Гарбе и, хотя его переносили на носилках, руководил битвой при Аль-Ксар аль-Кебире. Учитывая дислокацию войск противника, он послал Ахмеда во главе большого отряда в тыл армии дона Себастьяна. Португальская армия, переполненная фурами и вспомогательными службами, не сумела защитить свои тылы и вынуждена была построиться в огромное каре посередине равнины. Тонкий стратег Абд аль-Малик понял, что мобильность его кавалерии может стать решающим фактором. Построив свои войска в форме полумесяца, он начал охватывающее движение краев полумесяца.  «Армии сошлись на ровном поле,... на котором не было ни камня, ни дерева, - вспоминал позднее лекарь Абд аль-Малика в письме к брату... - Шериф приказал стрелять нашей артиллерии, которая состояла из 24 пушек, и они дали два залпа и нанесли урон христианам... Те ответили нам своей артиллерией» [14]. Хотя марокканские пушки, помещенные в центре полумесяца, пробили бреши в каре противника, отряд португальских кавалеристов из 500 чел. атаковал марокканцев на берегу Луккоса и углубился в их ряды. Встревоженный Абд аль-Малик, несмотря на слабость и страдания, одел свой самый красивый наряд, головной убор с тюрбаном, украшенным брошью и, несмотря на увещевания лекаря и своих близких, возглавил контратаку. Из всех известных нам современных описаний «битвы трех королей» самое обстоятельное и достоверное содержится в уже упоминавшемся «Анонимном отчете о битве при Аль-Ксар аль-Кебире», автором которого, по-видимому, был какой-то английский дипломат или купец, оказавшийся очевидцем этого события. Он так описывал битву: «На следующий день 4 августа 1578 г. король Португалии разделил свое войско на четыре батальона: командующим первого, шедшего в авангарде, он назначил Дуерто де Менезиша, второй батальон король возглавил сам. На правом фланге был со своими всадниками черный король-шериф (имеется ввиду племянник Абд аль-Малика Мухаммед аль-Мутаваккиль, который был лишен трона своим дядей - А.Х.) и на левом герцог Даверру, старший сын герцога Браганса. ...Абд аль-Малик первым начал атаку на всадников португальской армии, но они храбро защищались и в конце концов заставили аль-Малика и его мавров отступить, потеряв много людей. Но аль-Малик не был обескуражен и, снова построив людей в хороший боевой порядок, начал такую новую атаку на всадников короля Португалии, что заставил их отступить к главным силам...» [15]. Португальцы и их союзники пытались переправиться через аль-Махазин, чтобы отступить к Ларашу, но из-за прилива уровень воды в реке поднялся, и большая часть христиан, поддавшись панике, утонула или была взята в плен. «Мавры опрокинули боевые порядки португальских всадников, убили и взяли в плен всю армию за исключением 80 или 100 человек, которые спаслись бегством. Всего было убито 3000 немцев, 700 итальянцев и 2000 испанцев... В битве погибли три короля. Мавры потеряли 40 000 или 50 000 человек» [16]. В разгар битвы Абд аль-Малика вынесли на носилках и, несмотря на все усилия его спасти, он умер в полном сознании, сохраняя удивительную ясность ума. Умирая, он приложил палец к губам, давая понять, что его смерть следует держать в секрете, чтобы не вызвать панику в войсках. Так и сделали: известие о его смерти тщательно скрывалось и отдавались приказы от имени шерифа. Дальнейшие события развивались очень быстро. Марокканские кавалеристы устремились в брешь на правом фланге противника, другой край полумесяца также быстро двигался вперед. Португальская армия была окружена, ее артиллерия попала в руки арабов. Неудачливый претендент на марокканский трон аль-Мутаваккиль пытался бежать, но утонул в реке Махазин. Его труп вытащили, содрали с него кожу, набили соломой и в таком виде повезли по всей стране. Дон Себастьян, по одним сведениям, утонул, по другим - «умер от двух ранений в голову и одного в руку». На поле битвы Ахмед, брат Абд аль-Малика, был провозглашен новым шерифом и под именем эль Мансур (победоносный) стал править империей, протянувшейся от северных берегов Марокко до р. Сенегал.  Ахмед Аль-Мансур Победа мусульман была полной и безусловной. Число убитых христиан исчислялось тысячами, число взятых в плен и обращенных в рабство - десятками тысяч. Изумленный лекарь шерифа писал тотчас же после битвы: «Великая и божественная тайна - что в течение часа умерли три короля, из которых двое были столь могущественны... Все дворяне Португалии, начиная от сына герцога Браганса и до последнего оруженосца мертвы или взяты в плен. Это вещь никогда ранее невиданная и неслыханная!... Убитые, которых я видел, возможно, насчитывают 15 тыс. Пленных невозможно сосчитать... Мавры-работники теперь не должны зарабатывать деньги, ибо Фес и Виехо так наполнены пленными, что нет чиновника, который бы не имел 200 христианских невольников... для своих садов. Цена их - от 30 до 100 или 150 унций, а некоторых продают за 300, 400 или 500 унций» (унция равнялась двум шиллингам -А.Х.) [17]. Причин разгрома Португалии в «битве трех королей» было несколько. Во-первых, армия дона Себастьяна, набранная главным образом из недисциплинированных и плохо обученных иностранных наемников, несмотря на свою многочисленность и хорошее вооружение, была малобоеспособна. Лучшие и наиболее боеспособные португальские войска не участвовали в походе в Марокко, так как были заняты в войнах в Индии, Анголе и Бразилии. Руководство армией в Марокко находилось в руках бездарного и неопытного короля дона Себастьяна, который допустил ряд крупных тактических ошибок: в выборе диспозиции войск и в управлении ими в ходе самого сражения. Армия Абд аль-Малика была, напротив, хорошо обучена и имела огромный военный опыт. По своим боевым качествам она могла быть поставлена в один ряд с лучшими армиями того времени. Восприняв вооружение и военную тактику от турецкой армии, марокканская армия имела ту же, что и у турок, военную организацию и дисциплину. Во главе армии стоял талантливый полководец и государственный деятель Абд аль-Малик, который во время своих многолетних странствий хорошо изучил обычаи, языки и военную тактику португальцев, испанцев, итальянцев и турок. Помимо вышеуказанных причин есть основания предполагать, что существовала еще одна причина поражения португальцев в «битве трех королей». Она заключалась в дипломатической и военной поддержке, которую оказывала Абд аль-Малику одна из могущественнейших европейских держав - Англия. Поскольку этот вопрос обычно упускается из виду в исторических исследованиях (его не касается ни один из известных нам историков), мы позволим себе остановиться на нем несколько подробнее. Изучение документов приводит к выводу о том, что английские правящие круги проявляли к Марокко исключительный интерес и делали все от них зависящее для того, чтобы не допустить реставрации португальского господства в этой стране. Главная цель английской дипломатии в этом вопросе состояла в том, чтобы обеспечить Англии определенные торговые преимущества в Марокко, которое рассматривалось как незаменимый поставщик пшеницы и превосходный рынок сбыта английских хлопчатобумажных тканей. Как видно из документов, в начале 1570-х гг. английские интересы в Марокко столкнулись с португальскими, причем вспыхнувшее англо-португальское соперничество приняло весьма острые формы. В 1573 г. имели место англо-португальские переговоры о заключении договора между двумя странами, в ходе которых португальские дипломаты прилагали большие усилия для того, чтобы ввести в договор пункт, запрещающий Англии торговлю со странами, входящими в португальскую колониальную империю. Английский дипломат Томас Вильсон [18] в письме на имя государственного казначея Бургли 27 июля 1573 г. решительно настаивал на том, чтобы пункт, запрещающий Англии торговлю с Марокко, не был включен в договор с Португалией. В беседе с португальским послом в Лондоне Вильсон настаивал, чтобы общее запрещение английской торговли со странами, находящимися под контролем Португалии, не касалось Марокко. Особая заинтересованность Англии в торговле с Марокко проявилась, в частности, в том, что Вильсон предложил оставить в силе запрет на торговлю Англии с Гвинеей, но снять его с торговли с Марокко. Португальский посол настаивал на общем запрещении британской торговли с португальскими колониями, хотя устно обещал, что фактически оно не будет применяться к Марокко. На это Вильсон ответил (как это видно из его письма), что в этом случае положение будет неравным, так как королева Великобритании будет связана договором, а король Португалии - простым устным обещанием своего посла [19]. Через несколько дней состоялась новая встреча Вильсона с португальским послом, во время которой последний уверял, что торговля англичан с Марокко, несмотря на формальный запрет в проектируемом договоре, встретит терпимое отношение со стороны его короля. Вильсон возражал, что существует разница между подписанным документом и простыми словами. «Король Португалии и его наследники могут в один прекрасный день предпочесть запрещение, предписываемое договором» [20]. В конце концов после длительных и многотрудных переговоров Англия вынуждена была пойти на частичные уступки. Она согласилась ограничить свою торговлю с Марокко только тремя портами и полностью прекратить продажу оружия в эту страну, на чем особенно настаивали португальцы, опасаясь усиления саадийских шерифов. Это видно из сохранившегося ответа (меморандума) английского правительства португальскому послу в Лондоне Франсиску Жиральди [21] (апрель 1574 г.). В нем безапелляционно заявляется, что королева Великобритании не может запретить своим подданным торговлю с португальскими владениями в Африке и в Индии и что она удивлена претензиями Португалии в отношении Марокко, тем более, что ей хорошо известно, что Фес, Марракеш и Сус подчинены государю, который разрешил доступ для купцов всех наций (имеется в виду Саадийская династия). Однако английский меморандум, начинающийся этим выдержанным в довольно резких тонах вступлением, кончается на гораздо более примирительной ноте. В нем говорится, что королева Великобритании согласна запретить продажу оружия в Марокко и ограничить торговлю своих купцов только тремя портами - Ларашем, Сафи и Санта Крус де Агэр (Агадир) [22]. По-видимому, на основе этих предложений и был выработан окончательный проект англо-португальского договора. Самого текста этого договора в нашем распоряжении, к сожалению, нет. Однако можно с большой долей уверенности предположить, что в основу договора легли вышеуказанные английские предложения. Основанием для такого предположения может служить сохранившийся меморандум английского правительства послу Ф. Жиральди от 2 мая 1574 г., в котором говорится, что королева принимает статьи договора, согласованного между ее советниками и португальским послом. Она согласна полностью запретить продажу оружия в эту страну и ограничить английскую торговлю лишь тремя портами - Ларашем, Сафи и Агадиром. Далее в меморандуме указывается, что контроль будет осуществляться на английских судах при их отправке и при возвращении, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия [23]. Таким образом в результате заключения англо-португальского договора 1574 г. Англия, как это видно из анализа вышеприведенной дипломатической переписки, сумела все же выговорить для себя некоторые торговые права в Марокко, хотя и не столь обширные, как она того желала. Однако англичане, по-видимому, рассматривали этот договор не как завершение, а как начало борьбы за экономическое господство в Марокко. Поставив перед собой целью вытеснить португальцев из этой страны и захватить там решающие торговые позиции, английское правительство решило пойти по пути оказания военной и дипломатической поддержки Саадийскому шерифу Абд аль-Малику с тем, чтобы потом с его помощью отделаться от португальского соперника. До 1577 г. Англия имела с шерифом преимущественно торговые отношения. С этого времени она вступает с ним в прямой политический контакт. В ответ на английский дипломатический зондаж Абд аль-Малик, обладавший всеми качествами выдающегося государственного деятеля, сделал Лондону предложение о заключении англо-марокканского союза [24]. В том же 1577 г. королева Елизавета направила к Абд аль-Малику своего посла Эдмунда Хоган. Как видно из соответствующих документов, Хоган был уполномочен добиться от шерифа торговых преимуществ для английских купцов и особенно для британского правительства. Но наряду с этим Э. Хоган имел еще и другую миссию политического порядка. Он должен был дать положительный ответ британской королевы на предложения шерифа о заключении союза [25]. По нашему предположению, такой союз был заключен, хотя текста соответствующего договора нам обнаружить не удалось. По всей вероятности он не был опубликован, так как такой договор должен был, разумеется, иметь сугубо секретный характер. Во-первых, союз между мусульманским и христианским государями мог породить сильную оппозицию против Абд аль-Малика среди марокканского населения, а, во-вторых, он мог вызвать подозрения и возмущение в Португалии, поскольку противоречил духу англо-португальского договора 1574 г. и представлял собой явную угрозу португальским интересам в Марокко. Можно предполагать, что на основе секретного англо-марокканского договора о союзе Англия осуществляла тайные поставки оружия шерифу и оказывала ему иную военную и дипломатическую помощь [26], что и явилось, по нашему мнению, немаловажной и почему-то не учитывавшейся в исторических исследованиях причиной поражения Португалии в Марокко в 1578 г. Косвенным подтверждением этого является та бурная и восторженная реакция в Англии на «битву трех королей», которая абсолютно отчетливо и неоспоримо прослеживается по документам. «Битва трех королей» имела огромный резонанс в Европе и особенно в Англии. Вначале там не было никакой реакции, так как в достоверность сообщений об этом событии отказывались поверить. Многие письма и депеши в течение сентября 1578 г. представляли эту новость как слух, который нуждался в проверке и подтверждении. 1 сентября английский агент Дэвисон писал из Антверпена государственному казначею Англии Бургли: «В связи с сообщением, пришедшем из Испании, здесь прошел слух о поражении португальцев от мавров, слух, точность которого нуждается в подтверждении» [27]. Однако в конце сентября королева Елизавета получила из Парижа следующее сообщение: «Король был информирован 31 августа, что король Португалии разбит в Африке, большая часть его дворянства убита, и сам он мертв или находится в плену» [28]. Еще более обстоятельное письмо было получено Бургли в октябре. В нем говорилось: «При переходе через реку... произошла жестокая битва... и там умер бедный король Португалии и 20 000 его лучших людей, а остальные 9000 были взяты в плен маврами...» [29]. О том, что «битва трех королей» имела огромный отзвук в Англии, свидетельствует, в частности, то отражение, которое она нашла в английской литературе XVI-XVII вв. Джордж Пиль сделал ее сюжетом одной из своих драм - «Битва при Алькасаре». Английские поэты посвятили этой битве ряд поэм и баллад [30]. Следует сказать, что англичане в дальнейшем сумели пожать плоды своей антипортугальской политики в Марокко. Они использовали поражение португальцев для развития своей торговли тканями в обмен на магрибское золото, сахар, кожу, пшеницу и селитру. Но острое соперничество между купцами и представителями правительственных кругов помешало осуществлению плана создания единой торговой компании (1585 г.), после чего английская торговля с Марокко быстро пошла на убыль. Помимо экономического значения королева Елизавета отводила Марокко большую роль и в своих политических планах. Одно время она всерьез подумывала о создании союза с участием султанов Константинополя и Марракеша для разгрома Филиппа II, завладевшего Португалией. Султан Аль-Мансур поддержал эту идею, предложив Елизавете II свой план совместного завоевания и раздела Испании. «Смерть старой королевы и кончина султана, умершего от чумы, положили конец этим планам большой политики (1603 г.)» - писал Ш.А. Жюльен [История Северной Африки, с. 259]. Последствия «битвы трех королей» были значительными. Себастьян вез в своем багаже корону, так как имел намерение провозгласить себя королем Марокко. Этот король стремился осуществить не обычное завоевание, а крестовый поход. Став победителем, он бы сделал все для христианизации Магриба и для продолжения своих авантюр на Востоке. Его разгром навсегда похоронил такие планы в Португалии и во всей Европе. Португалия, в одночасье лишившаяся своей элиты, стала лишь бледной тенью былой могучей державы. Уже через два года Филипп II присоединил Португалию к Испании. «Испанский плен» продолжался до 1640 г. Никогда более лузитанское королевство не вернуло былого могущества и блеска, которые были потеряны на берегах Махазина. Битва 4 августа 1578 г. имела большие международные последствия для целого ряда стран, но самое значительное влияние она оказала на дальнейшие исторические судьбы двух непосредственно участвовавших в ней государств - Марокко и Португалии. Победа при Аль Ксар аль-Кебире сразу вывела Марокко на авансцену европейской и мировой политики. В глазах мировой общественности шерифский Марокко предстал как сила, с которой нельзя не считаться. Союза с шерифами стали добиваться могущественнейшие монархи Европы. Брат Абд аль-Малика Ахмед, провозглашенный после его смерти шерифом под именем Аль-Мансур (победитель) воспользовался не только блистательной славой победы, но и огромной добычей. Его казна была во много раз увеличена также выкупами, полученными за португальских дворян, обращенных в неволю. Окруженное ореолом победы над Португалией Марокко стало пользоваться авторитетом одной из могущественнейших держав, в столицу которой Марракеш стали прибывать послы из многих стран, даже европейские монархи домогались займов у марокканского шерифа, столь богатого, что его называли «Золотым» (аз-Захаби). Что же касается Португалии, то в «битве трех королей» она потеряла все - своего короля, цвет своего дворянства, армию, государственность и политическую независимость. В этой битве нашли свою гибель не только португальская армия, но и португальское государство. Смерть дона Себастьяна фактически означала смерть Ависской династии. По словам известного английского исследователя Ф. Дэнверса, «его смертью было выковано почти последнее звено в той цепи, которая постепенно окружала богатства королевства, теперь почти полностью поглощенного алчным и тщеславным соседом» (т. е. Испанией - А.Х.) [31]. Король умер, не оставив прямых наследников. Трон должен был наследовать 66-летний старик кардинал Энрики, последний еще живший сын Мануэля Счастливого. После его смерти прекратилась Ависская династия. Этим воспользовался испанский король Филипп II, который, с одной стороны, опирался на военную силу в лице ветеранов герцога Альбы, а с другой стороны, ловко использовал в своих целях трусость и продажность португальского дворянства. В 1581 г. кортесы, собравшиеся в Томаре, объявили Филиппа II королем Португалии. Так Португалия потеряла свою политическую самостоятельность и вместе со всей своей колониальной империей на долгие 60 лет подпала под власть испанских королей. Однако еще до потери своего государственного суверенитета Португалия предприняла энергичные попытки расширить свои колониальные владения в Африке. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Archivo National da Torre do Tombo // Corpo Cron. Doc. № 122. 2. Ibid. Doc. № 82. 3. Ibid. Doc. № 36. 4. Ibid. Doc. № 106. 5. Ibid. Doc. №110. 6. Ibid. Doc. № 106. 7. Ibid. Doc. № 112. 8. Ibid. Doc. № 114. 9. Le Matin du Sahara et du Meghreb. - Maroco, 4.08.2000. 10. Ibid., p. 300. 11. Les Sources inedites... Doc. СХХП, p. 334. 12. Жюльен Ш.А. История Северной Африки. Тунис, Алжир, Марокко от арабского за¬воевания до 1830 г. Т .2. - М., 1961, с. 239. 13. Le Matin Sahara..4.08.2000. 14. Les Sources inedites... T. 1. Doc. CXIX, pp.316-137; E. Hoffman. Realm of the Evening Star. A History of Morocco and the Lands of the Moors. - Philadelphia - N.Y., 1965, p. 138. 15. Ibid. Doc. CXXII, p. 337. 16. Ibid. 17. Les Sources inedites... Doc. CXIX, p. 319-330. 18. Томас Вильсон (1525-1581 гг.) - видный английский дипломат. В 1567-1568 гг. он был британским послом в Португалии, в 1574-1575 гг. и в 1576-1577 гг. - послом во Фландрии. С ноября 1577 г. стал государственным секретарем. В то время, о ко-тором идет речь, он служил посредником в переговорах между португальским по-слом в Лондоне и английским правительством. 19. Les Sources inedites... Doc. CLIX, p. 117-118. 20. Ibid. 21. Франсишку Жиральди - сын флорентийского купца Лукаса Жиральди, который, приобретя огромное состояние, обосновался в Португалии. Ф. Жиральди был послом Португалии в Англии, а потом (1579 г.) во Франции. 22. Les Sources inedites... Doc. LII, p. 124-125. 23. Ibid. Doc LIII, p. 127-128. 24. Ibid. Doc. ХСШ, p. 237. 25. Ibid. p. XI. 26. Об этом свидетельствует, в частности, тот любопытный факт, что в битве трех королей на стороне Абд аль-Малика сражалось несколько англичан, один из которых знатный английский дворянин Стюкли был убит. 27. Les Sources inedites... Doc. CXX, Note I, p.325. 28. Ibid., р. 325. 29. Ibid., р. 323. 30. См.: Simpson R. The School of Shakespeare. 31. Danvers F. The Portuguese in India. Vol. П, p. 22. Вестник РУДН, Серия "Международные отношения", 2004, № 1(4), С. 82-91. Битва трёх королей при Эль-Ксар-эль-Кебире 2013-12-21 05:24 Saygo Saygo: А.М. ХАЗАНОВ. БИТВА ТРЕХ КОРОЛЕЙ (ИЗ ИСТОРИИ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ МАРОККО В XVI В.) В основу статьи положены находки автора в архивах и книгохранилищах Португалии. На основе подлинных документов рассматривается история португальской колонизации Марокко в XVI в. В XVI в. маленькая Португалия владела огромной империей, в которой никогда не заходило солнце. Опытные навигаторы, ненасытные завоеватели португальцы господствовали в Бразилии, Индии, на Молуккских островах, в Африке. Но в Марокко португальские колонизаторы столкнулись с наиболее сильным сопротивлением. Обосновавшись в Сеуте в 1415 г., португальцы завладели в 1417 г. Танжером и Арсилой, а в 1458 г. - Аль-Ксар аль Кебиром. Став хозяевами стратегически важных портов, португальцы перерезали тесные связи между Марокко и арабским государством Гранада, которое в 1492 г. прекратило свое существование в результате атак войск Кастилии, которая завершила Реконкисту после семи веков непрекращавшихся битв. Что касается Португалии, то она завершила свою реконкисту на два с половиной века раньше - в 1249 г. Восшествие на престол Ависской династии привело страну к пику могущества. Однако Португалия была колоссом на глиняных ногах. Это ясно показал ход войны португальцев против марокканцев. Захватив Агадир в 1505 г., Могадор в 1506 г., Сафи в 1508 г., Аземмур в 1513 г., Мазаган в 1514 г., португальцы оставили свои гарнизоны в Мехдии и в Анфа. Испанцы, со своей стороны, оставили португальцам атлантическое побережье Марокко, обосновавшись в Риф и на островах Шаффарин. Помимо европейских конкистадоров Марокко столкнулось и с угрозой с востока: это были турки, прочно обосновавшиеся в Алжире. Они попытались вторгнуться в Марокко, но были разбиты в битве при Уед Лебан в 1568 г. Правившая в Марокко Меринидская династия всеми силами пыталась, если не отразить, то хотя бы сдерживать наступление португальских и испанских завоевателей. Наследовавшая Меринидам Саадийская династия добилась больших успехов в войне с португальцами, в руках которых к 1578 г. оставались всего лишь три марокканские крепости: Мазаган, Танжер и Сеута. Но этим крепостям с трудом удавалось отбивать атаки войск саадийского шерифа. Так, в письме Алвару де Карвалью королю Себастьяну от 8 июля 1556 г. сообщалось о «многочисленных сражениях с маврами, которые мы имели около города Мазагана» [1]. Бои за Мазаган шли очень долго. Тот же Алвару де Карвалью уведомил короля Себастьяна 18 января 1560 г. о том, что ему приходится продолжать отбивать нападения мавров, ведя с ними «перестрелки» [2]. 14 июля 1560 г. он сообщил королеве о том, что имел «сражение» с маврами [3]. 12 апреля 1561 г. Алвару де Карвалью направил королеве письмо, в котором просил срочно прислать подкрепление в Мазаган, «ввиду того, что шериф готовится атаковать этот город» [4]. Судя по документам, эти опасения имели под собой серьезные основания. Уже 22 апреля 1561 г. Алвару де Карвалью сообщил королеве о том, что мавры начали осаду Мазагана [5]. Эту осаду арабы вели долго и безуспешно. В письме от 9 апреля 1562 г. Педру Паулу Волпи уведомлял королевский двор о продолжающейся осаде Мазагана [6]. О том же сообщали в письме от 12 апреля 1562 г. Фернанду да Фонсека [7] и в письме от 18 апреля 1562 г. Педру Гузарти Коутинью [8]. Юный импульсивный и амбициозный король Себастьян рассматривал это как оскорбление и национальное унижение Португалии. Он считал, что к 1578 г. сложилась чрезвычайно благоприятная ситуация для реванша. Турецкая угроза из западной части Средиземноморья была устранена в результате битвы при Лепанто, выигранной законным сыном Карла V доном Хуаном в 1571 г. Испания сумела аннексировать Филиппины. Португалия в это время была на вершине своего могущества.  Дон Себастьян Дон Себастьян вынашивал план захвата Марокко и нового крестового похода с целью обратить в христианство народы Магриба. Удобный предлог для вторжения, который он искал, предоставила междоусобная борьба за престол между сыновьями шерифа Мухаммеда али-Шейха в Марокко. Этот шериф умер, оставив трех сыновей: Абделлаха, Абд аль-Малика и Ахмеда. В результате междоусобной войны шерифом стал старший сын - Абделлах. Он умер в 1574 г. и его престол унаследовал его сын Мохаммед. Отличаясь деспотическим и жестоким нравом, он быстро вызвал к себе ненависть своих подданных. В отличие от него его дядя Абд аль-Малик, выделявшийся государственным умом и выдающимся полководческим талантом, снискал большую славу и всеобщую любовь. Мохаммед отправил Абд аль-Малика к туркам в Стамбул, где он жил при Дворе султана Мурада I [9]. Став любимцем султана, Абд аль-Малик даже участвовал на стороне турок в морском сражении при Ла Гулетт. Это позволило ему позже получить уважение и поддержку турок. Он был поклонником турецкой системы управления и позже, став правителем Марокко, ввел административную систему, полностью скопированную с той, что существовала в Османской империи. Он был весьма образованным человеком, говорил на 5 языках (арабском, испанском, итальянском, русском и армянском). В то же время он был очень религиозным экзальтированным человеком. В 1576 г. Абд аль-Малик при поддержке турок вторгся с большим войском в Марокко, овладел троном и вынудил племянника Мухаммеда аль-Мутаваккиля бежать в Испанию. Поэтому лишенный трона аль-Мутаваккиль с остатками своего разбитого войска присоединился к португальцам, считавшим его законным правителем Марокко, рассчитывая с их помощью вернуть утерянный трон. Будучи абсолютно убежден в полном успехе своего предприятия, дон Себастьян во главе своего многочисленного войска 25 июня 1578 г. отплыл из Лиссабона и 28 июня прибыл в испанский порт Кадикс, где пробыл 10 дней [10]. В июле 1578 г. дон Себастьян с большим войском, приплывшем на флоте, состоявшим из 1200 судов, высадился в Танжере, где его ждал аль-Мутаваккиль с 300 солдатами. Абд аль-Малик, живший в Марракеше, ведя интенсивную переписку с португальским королем, пытался урезонить его, доказывая бессмысленность его предприятия. Будучи выдающимся полководцем, Абд аль-Малик очень умело руководил своими войсками. Он собрал их в Гарбе и приказал своему брату Ахмеду, жившему в Фесе, привести туда все бывшие в его распоряжении силы. Между тем дон Себастьян со всем войском ушел к Арсиле и 29 июля «разбил лагерь в месте, называемом Сладкой речкой» [11]. Тонкий психолог Абд аль-Малик решил сыграть на таких чертах характера дона Себастьяна, как тщеславие и амбициозность. Он отправляет ему новое письмо. «Я пересекаю всю страну, чтобы встретиться с тобой, а ты не делаешь мне навстречу ни шага, - пишет он. - Это недостойно рыцаря и христианина, а если ты отступишь назад к месту своей высадки, то ты всего лишь собака и сукин сын». Дон Себастьян угодил в эту искусно расставленную для него западню. Несмотря на возражения тех, кто хорошо знал о хитрости Абд аль-Малика, молодой король снялся с лагеря и 30 июля подошел к Аль-Ксар аль-Кебиру, где его поджидал саадийский шериф Абд аль-Малик с армией в 50 тыс. чел., главную силу которой составляла кавалерия. Этот бесцельный поход утомил португальскую армию. Абд аль-Малик удачно выбрал место для предстоящей битвы: Себастьян дал завлечь себя в ловушку между рекой Луккос и ее притоком аль-Махазином, не придав значения тому, что уровень воды в этих реках сильно повышается во время прилива [12] и не стал ждать, когда спадет дневная жара, тотчас начав битву. Эти ошибки стоили ему очень дорого. Португальская армия состояла почти из 120 тыс. чел., в ней было все лузитанское дворянство и многочисленные наемники из самых разных стран, марокканская армия имела почти такую же численность, но была чрезвычайно сильной и мобильной благодаря 70 000 кавалеристов, 30 000 пехотинцев, 12 000 мушкетеров и 40 артиллерийских орудий [13]. Но было одно крайне беспокоящее обстоятельство, которое могло обернуться фатальным исходом для марокканской армии: шериф Абд аль-Малик был тяжело болен. По всей вероятности и по заключению врача-еврея, который с самоотверженной преданностью ухаживал за ним до самой смерти, шериф стал жертвой отравления ядом, который кто-то добавил в его пищу, когда он ждал брата Ахмеда в Гарбе. Несмотря на страдания, он участвовал в праздновании соединения двух армий в Гарбе и, хотя его переносили на носилках, руководил битвой при Аль-Ксар аль-Кебире. Учитывая дислокацию войск противника, он послал Ахмеда во главе большого отряда в тыл армии дона Себастьяна. Португальская армия, переполненная фурами и вспомогательными службами, не сумела защитить свои тылы и вынуждена была построиться в огромное каре посередине равнины. Тонкий стратег Абд аль-Малик понял, что мобильность его кавалерии может стать решающим фактором. Построив свои войска в форме полумесяца, он начал охватывающее движение краев полумесяца.  «Армии сошлись на ровном поле,... на котором не было ни камня, ни дерева, - вспоминал позднее лекарь Абд аль-Малика в письме к брату... - Шериф приказал стрелять нашей артиллерии, которая состояла из 24 пушек, и они дали два залпа и нанесли урон христианам... Те ответили нам своей артиллерией» [14]. Хотя марокканские пушки, помещенные в центре полумесяца, пробили бреши в каре противника, отряд португальских кавалеристов из 500 чел. атаковал марокканцев на берегу Луккоса и углубился в их ряды. Встревоженный Абд аль-Малик, несмотря на слабость и страдания, одел свой самый красивый наряд, головной убор с тюрбаном, украшенным брошью и, несмотря на увещевания лекаря и своих близких, возглавил контратаку. Из всех известных нам современных описаний «битвы трех королей» самое обстоятельное и достоверное содержится в уже упоминавшемся «Анонимном отчете о битве при Аль-Ксар аль-Кебире», автором которого, по-видимому, был какой-то английский дипломат или купец, оказавшийся очевидцем этого события. Он так описывал битву: «На следующий день 4 августа 1578 г. король Португалии разделил свое войско на четыре батальона: командующим первого, шедшего в авангарде, он назначил Дуерто де Менезиша, второй батальон король возглавил сам. На правом фланге был со своими всадниками черный король-шериф (имеется ввиду племянник Абд аль-Малика Мухаммед аль-Мутаваккиль, который был лишен трона своим дядей - А.Х.) и на левом герцог Даверру, старший сын герцога Браганса. ...Абд аль-Малик первым начал атаку на всадников португальской армии, но они храбро защищались и в конце концов заставили аль-Малика и его мавров отступить, потеряв много людей. Но аль-Малик не был обескуражен и, снова построив людей в хороший боевой порядок, начал такую новую атаку на всадников короля Португалии, что заставил их отступить к главным силам...» [15]. Португальцы и их союзники пытались переправиться через аль-Махазин, чтобы отступить к Ларашу, но из-за прилива уровень воды в реке поднялся, и большая часть христиан, поддавшись панике, утонула или была взята в плен. «Мавры опрокинули боевые порядки португальских всадников, убили и взяли в плен всю армию за исключением 80 или 100 человек, которые спаслись бегством. Всего было убито 3000 немцев, 700 итальянцев и 2000 испанцев... В битве погибли три короля. Мавры потеряли 40 000 или 50 000 человек» [16]. В разгар битвы Абд аль-Малика вынесли на носилках и, несмотря на все усилия его спасти, он умер в полном сознании, сохраняя удивительную ясность ума. Умирая, он приложил палец к губам, давая понять, что его смерть следует держать в секрете, чтобы не вызвать панику в войсках. Так и сделали: известие о его смерти тщательно скрывалось и отдавались приказы от имени шерифа. Дальнейшие события развивались очень быстро. Марокканские кавалеристы устремились в брешь на правом фланге противника, другой край полумесяца также быстро двигался вперед. Португальская армия была окружена, ее артиллерия попала в руки арабов. Неудачливый претендент на марокканский трон аль-Мутаваккиль пытался бежать, но утонул в реке Махазин. Его труп вытащили, содрали с него кожу, набили соломой и в таком виде повезли по всей стране. Дон Себастьян, по одним сведениям, утонул, по другим - «умер от двух ранений в голову и одного в руку». На поле битвы Ахмед, брат Абд аль-Малика, был провозглашен новым шерифом и под именем эль Мансур (победоносный) стал править империей, протянувшейся от северных берегов Марокко до р. Сенегал.  Ахмед Аль-Мансур Победа мусульман была полной и безусловной. Число убитых христиан исчислялось тысячами, число взятых в плен и обращенных в рабство - десятками тысяч. Изумленный лекарь шерифа писал тотчас же после битвы: «Великая и божественная тайна - что в течение часа умерли три короля, из которых двое были столь могущественны... Все дворяне Португалии, начиная от сына герцога Браганса и до последнего оруженосца мертвы или взяты в плен. Это вещь никогда ранее невиданная и неслыханная!... Убитые, которых я видел, возможно, насчитывают 15 тыс. Пленных невозможно сосчитать... Мавры-работники теперь не должны зарабатывать деньги, ибо Фес и Виехо так наполнены пленными, что нет чиновника, который бы не имел 200 христианских невольников... для своих садов. Цена их - от 30 до 100 или 150 унций, а некоторых продают за 300, 400 или 500 унций» (унция равнялась двум шиллингам -А.Х.) [17]. Причин разгрома Португалии в «битве трех королей» было несколько. Во-первых, армия дона Себастьяна, набранная главным образом из недисциплинированных и плохо обученных иностранных наемников, несмотря на свою многочисленность и хорошее вооружение, была малобоеспособна. Лучшие и наиболее боеспособные португальские войска не участвовали в походе в Марокко, так как были заняты в войнах в Индии, Анголе и Бразилии. Руководство армией в Марокко находилось в руках бездарного и неопытного короля дона Себастьяна, который допустил ряд крупных тактических ошибок: в выборе диспозиции войск и в управлении ими в ходе самого сражения. Армия Абд аль-Малика была, напротив, хорошо обучена и имела огромный военный опыт. По своим боевым качествам она могла быть поставлена в один ряд с лучшими армиями того времени. Восприняв вооружение и военную тактику от турецкой армии, марокканская армия имела ту же, что и у турок, военную организацию и дисциплину. Во главе армии стоял талантливый полководец и государственный деятель Абд аль-Малик, который во время своих многолетних странствий хорошо изучил обычаи, языки и военную тактику португальцев, испанцев, итальянцев и турок. Помимо вышеуказанных причин есть основания предполагать, что существовала еще одна причина поражения португальцев в «битве трех королей». Она заключалась в дипломатической и военной поддержке, которую оказывала Абд аль-Малику одна из могущественнейших европейских держав - Англия. Поскольку этот вопрос обычно упускается из виду в исторических исследованиях (его не касается ни один из известных нам историков), мы позволим себе остановиться на нем несколько подробнее. Изучение документов приводит к выводу о том, что английские правящие круги проявляли к Марокко исключительный интерес и делали все от них зависящее для того, чтобы не допустить реставрации португальского господства в этой стране. Главная цель английской дипломатии в этом вопросе состояла в том, чтобы обеспечить Англии определенные торговые преимущества в Марокко, которое рассматривалось как незаменимый поставщик пшеницы и превосходный рынок сбыта английских хлопчатобумажных тканей. Как видно из документов, в начале 1570-х гг. английские интересы в Марокко столкнулись с португальскими, причем вспыхнувшее англо-португальское соперничество приняло весьма острые формы. В 1573 г. имели место англо-португальские переговоры о заключении договора между двумя странами, в ходе которых португальские дипломаты прилагали большие усилия для того, чтобы ввести в договор пункт, запрещающий Англии торговлю со странами, входящими в португальскую колониальную империю. Английский дипломат Томас Вильсон [18] в письме на имя государственного казначея Бургли 27 июля 1573 г. решительно настаивал на том, чтобы пункт, запрещающий Англии торговлю с Марокко, не был включен в договор с Португалией. В беседе с португальским послом в Лондоне Вильсон настаивал, чтобы общее запрещение английской торговли со странами, находящимися под контролем Португалии, не касалось Марокко. Особая заинтересованность Англии в торговле с Марокко проявилась, в частности, в том, что Вильсон предложил оставить в силе запрет на торговлю Англии с Гвинеей, но снять его с торговли с Марокко. Португальский посол настаивал на общем запрещении британской торговли с португальскими колониями, хотя устно обещал, что фактически оно не будет применяться к Марокко. На это Вильсон ответил (как это видно из его письма), что в этом случае положение будет неравным, так как королева Великобритании будет связана договором, а король Португалии - простым устным обещанием своего посла [19]. Через несколько дней состоялась новая встреча Вильсона с португальским послом, во время которой последний уверял, что торговля англичан с Марокко, несмотря на формальный запрет в проектируемом договоре, встретит терпимое отношение со стороны его короля. Вильсон возражал, что существует разница между подписанным документом и простыми словами. «Король Португалии и его наследники могут в один прекрасный день предпочесть запрещение, предписываемое договором» [20]. В конце концов после длительных и многотрудных переговоров Англия вынуждена была пойти на частичные уступки. Она согласилась ограничить свою торговлю с Марокко только тремя портами и полностью прекратить продажу оружия в эту страну, на чем особенно настаивали португальцы, опасаясь усиления саадийских шерифов. Это видно из сохранившегося ответа (меморандума) английского правительства португальскому послу в Лондоне Франсиску Жиральди [21] (апрель 1574 г.). В нем безапелляционно заявляется, что королева Великобритании не может запретить своим подданным торговлю с португальскими владениями в Африке и в Индии и что она удивлена претензиями Португалии в отношении Марокко, тем более, что ей хорошо известно, что Фес, Марракеш и Сус подчинены государю, который разрешил доступ для купцов всех наций (имеется в виду Саадийская династия). Однако английский меморандум, начинающийся этим выдержанным в довольно резких тонах вступлением, кончается на гораздо более примирительной ноте. В нем говорится, что королева Великобритании согласна запретить продажу оружия в Марокко и ограничить торговлю своих купцов только тремя портами - Ларашем, Сафи и Санта Крус де Агэр (Агадир) [22]. По-видимому, на основе этих предложений и был выработан окончательный проект англо-португальского договора. Самого текста этого договора в нашем распоряжении, к сожалению, нет. Однако можно с большой долей уверенности предположить, что в основу договора легли вышеуказанные английские предложения. Основанием для такого предположения может служить сохранившийся меморандум английского правительства послу Ф. Жиральди от 2 мая 1574 г., в котором говорится, что королева принимает статьи договора, согласованного между ее советниками и португальским послом. Она согласна полностью запретить продажу оружия в эту страну и ограничить английскую торговлю лишь тремя портами - Ларашем, Сафи и Агадиром. Далее в меморандуме указывается, что контроль будет осуществляться на английских судах при их отправке и при возвращении, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия [23]. Таким образом в результате заключения англо-португальского договора 1574 г. Англия, как это видно из анализа вышеприведенной дипломатической переписки, сумела все же выговорить для себя некоторые торговые права в Марокко, хотя и не столь обширные, как она того желала. Однако англичане, по-видимому, рассматривали этот договор не как завершение, а как начало борьбы за экономическое господство в Марокко. Поставив перед собой целью вытеснить португальцев из этой страны и захватить там решающие торговые позиции, английское правительство решило пойти по пути оказания военной и дипломатической поддержки Саадийскому шерифу Абд аль-Малику с тем, чтобы потом с его помощью отделаться от португальского соперника. До 1577 г. Англия имела с шерифом преимущественно торговые отношения. С этого времени она вступает с ним в прямой политический контакт. В ответ на английский дипломатический зондаж Абд аль-Малик, обладавший всеми качествами выдающегося государственного деятеля, сделал Лондону предложение о заключении англо-марокканского союза [24]. В том же 1577 г. королева Елизавета направила к Абд аль-Малику своего посла Эдмунда Хоган. Как видно из соответствующих документов, Хоган был уполномочен добиться от шерифа торговых преимуществ для английских купцов и особенно для британского правительства. Но наряду с этим Э. Хоган имел еще и другую миссию политического порядка. Он должен был дать положительный ответ британской королевы на предложения шерифа о заключении союза [25]. По нашему предположению, такой союз был заключен, хотя текста соответствующего договора нам обнаружить не удалось. По всей вероятности он не был опубликован, так как такой договор должен был, разумеется, иметь сугубо секретный характер. Во-первых, союз между мусульманским и христианским государями мог породить сильную оппозицию против Абд аль-Малика среди марокканского населения, а, во-вторых, он мог вызвать подозрения и возмущение в Португалии, поскольку противоречил духу англо-португальского договора 1574 г. и представлял собой явную угрозу португальским интересам в Марокко. Можно предполагать, что на основе секретного англо-марокканского договора о союзе Англия осуществляла тайные поставки оружия шерифу и оказывала ему иную военную и дипломатическую помощь [26], что и явилось, по нашему мнению, немаловажной и почему-то не учитывавшейся в исторических исследованиях причиной поражения Португалии в Марокко в 1578 г. Косвенным подтверждением этого является та бурная и восторженная реакция в Англии на «битву трех королей», которая абсолютно отчетливо и неоспоримо прослеживается по документам. «Битва трех королей» имела огромный резонанс в Европе и особенно в Англии. Вначале там не было никакой реакции, так как в достоверность сообщений об этом событии отказывались поверить. Многие письма и депеши в течение сентября 1578 г. представляли эту новость как слух, который нуждался в проверке и подтверждении. 1 сентября английский агент Дэвисон писал из Антверпена государственному казначею Англии Бургли: «В связи с сообщением, пришедшем из Испании, здесь прошел слух о поражении португальцев от мавров, слух, точность которого нуждается в подтверждении» [27]. Однако в конце сентября королева Елизавета получила из Парижа следующее сообщение: «Король был информирован 31 августа, что король Португалии разбит в Африке, большая часть его дворянства убита, и сам он мертв или находится в плену» [28]. Еще более обстоятельное письмо было получено Бургли в октябре. В нем говорилось: «При переходе через реку... произошла жестокая битва... и там умер бедный король Португалии и 20 000 его лучших людей, а остальные 9000 были взяты в плен маврами...» [29]. О том, что «битва трех королей» имела огромный отзвук в Англии, свидетельствует, в частности, то отражение, которое она нашла в английской литературе XVI-XVII вв. Джордж Пиль сделал ее сюжетом одной из своих драм - «Битва при Алькасаре». Английские поэты посвятили этой битве ряд поэм и баллад [30]. Следует сказать, что англичане в дальнейшем сумели пожать плоды своей антипортугальской политики в Марокко. Они использовали поражение португальцев для развития своей торговли тканями в обмен на магрибское золото, сахар, кожу, пшеницу и селитру. Но острое соперничество между купцами и представителями правительственных кругов помешало осуществлению плана создания единой торговой компании (1585 г.), после чего английская торговля с Марокко быстро пошла на убыль. Помимо экономического значения королева Елизавета отводила Марокко большую роль и в своих политических планах. Одно время она всерьез подумывала о создании союза с участием султанов Константинополя и Марракеша для разгрома Филиппа II, завладевшего Португалией. Султан Аль-Мансур поддержал эту идею, предложив Елизавете II свой план совместного завоевания и раздела Испании. «Смерть старой королевы и кончина султана, умершего от чумы, положили конец этим планам большой политики (1603 г.)» - писал Ш.А. Жюльен [История Северной Африки, с. 259]. Последствия «битвы трех королей» были значительными. Себастьян вез в своем багаже корону, так как имел намерение провозгласить себя королем Марокко. Этот король стремился осуществить не обычное завоевание, а крестовый поход. Став победителем, он бы сделал все для христианизации Магриба и для продолжения своих авантюр на Востоке. Его разгром навсегда похоронил такие планы в Португалии и во всей Европе. Португалия, в одночасье лишившаяся своей элиты, стала лишь бледной тенью былой могучей державы. Уже через два года Филипп II присоединил Португалию к Испании. «Испанский плен» продолжался до 1640 г. Никогда более лузитанское королевство не вернуло былого могущества и блеска, которые были потеряны на берегах Махазина. Битва 4 августа 1578 г. имела большие международные последствия для целого ряда стран, но самое значительное влияние она оказала на дальнейшие исторические судьбы двух непосредственно участвовавших в ней государств - Марокко и Португалии. Победа при Аль Ксар аль-Кебире сразу вывела Марокко на авансцену европейской и мировой политики. В глазах мировой общественности шерифский Марокко предстал как сила, с которой нельзя не считаться. Союза с шерифами стали добиваться могущественнейшие монархи Европы. Брат Абд аль-Малика Ахмед, провозглашенный после его смерти шерифом под именем Аль-Мансур (победитель) воспользовался не только блистательной славой победы, но и огромной добычей. Его казна была во много раз увеличена также выкупами, полученными за португальских дворян, обращенных в неволю. Окруженное ореолом победы над Португалией Марокко стало пользоваться авторитетом одной из могущественнейших держав, в столицу которой Марракеш стали прибывать послы из многих стран, даже европейские монархи домогались займов у марокканского шерифа, столь богатого, что его называли «Золотым» (аз-Захаби). Что же касается Португалии, то в «битве трех королей» она потеряла все - своего короля, цвет своего дворянства, армию, государственность и политическую независимость. В этой битве нашли свою гибель не только португальская армия, но и португальское государство. Смерть дона Себастьяна фактически означала смерть Ависской династии. По словам известного английского исследователя Ф. Дэнверса, «его смертью было выковано почти последнее звено в той цепи, которая постепенно окружала богатства королевства, теперь почти полностью поглощенного алчным и тщеславным соседом» (т. е. Испанией - А.Х.) [31]. Король умер, не оставив прямых наследников. Трон должен был наследовать 66-летний старик кардинал Энрики, последний еще живший сын Мануэля Счастливого. После его смерти прекратилась Ависская династия. Этим воспользовался испанский король Филипп II, который, с одной стороны, опирался на военную силу в лице ветеранов герцога Альбы, а с другой стороны, ловко использовал в своих целях трусость и продажность португальского дворянства. В 1581 г. кортесы, собравшиеся в Томаре, объявили Филиппа II королем Португалии. Так Португалия потеряла свою политическую самостоятельность и вместе со всей своей колониальной империей на долгие 60 лет подпала под власть испанских королей. Однако еще до потери своего государственного суверенитета Португалия предприняла энергичные попытки расширить свои колониальные владения в Африке. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Archivo National da Torre do Tombo // Corpo Cron. Doc. № 122. 2. Ibid. Doc. № 82. 3. Ibid. Doc. № 36. 4. Ibid. Doc. № 106. 5. Ibid. Doc. №110. 6. Ibid. Doc. № 106. 7. Ibid. Doc. № 112. 8. Ibid. Doc. № 114. 9. Le Matin du Sahara et du Meghreb. - Maroco, 4.08.2000. 10. Ibid., p. 300. 11. Les Sources inedites... Doc. СХХП, p. 334. 12. Жюльен Ш.А. История Северной Африки. Тунис, Алжир, Марокко от арабского за¬воевания до 1830 г. Т .2. - М., 1961, с. 239. 13. Le Matin Sahara..4.08.2000. 14. Les Sources inedites... T. 1. Doc. CXIX, pp.316-137; E. Hoffman. Realm of the Evening Star. A History of Morocco and the Lands of the Moors. - Philadelphia - N.Y., 1965, p. 138. 15. Ibid. Doc. CXXII, p. 337. 16. Ibid. 17. Les Sources inedites... Doc. CXIX, p. 319-330. 18. Томас Вильсон (1525-1581 гг.) - видный английский дипломат. В 1567-1568 гг. он был британским послом в Португалии, в 1574-1575 гг. и в 1576-1577 гг. - послом во Фландрии. С ноября 1577 г. стал государственным секретарем. В то время, о ко-тором идет речь, он служил посредником в переговорах между португальским по-слом в Лондоне и английским правительством. 19. Les Sources inedites... Doc. CLIX, p. 117-118. 20. Ibid. 21. Франсишку Жиральди - сын флорентийского купца Лукаса Жиральди, который, приобретя огромное состояние, обосновался в Португалии. Ф. Жиральди был послом Португалии в Англии, а потом (1579 г.) во Франции. 22. Les Sources inedites... Doc. LII, p. 124-125. 23. Ibid. Doc LIII, p. 127-128. 24. Ibid. Doc. ХСШ, p. 237. 25. Ibid. p. XI. 26. Об этом свидетельствует, в частности, тот любопытный факт, что в битве трех королей на стороне Абд аль-Малика сражалось несколько англичан, один из которых знатный английский дворянин Стюкли был убит. 27. Les Sources inedites... Doc. CXX, Note I, p.325. 28. Ibid., р. 325. 29. Ibid., р. 323. 30. См.: Simpson R. The School of Shakespeare. 31. Danvers F. The Portuguese in India. Vol. П, p. 22. Вестник РУДН, Серия "Международные отношения", 2004, № 1(4), С. 82-91. Колониальная империя Дании 2013-12-21 06:31 Saygo Saygo: В. Е. Возгрин МОДЕЛИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДАНИИ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ История Дании как колониальной империи пока не стала предметом специального исследования ни в отечественной, ни в зарубежной науке. Этой теме посвящены лишь отдельные замечания, встречающиеся в разрозненном виде в общих трудах по истории государства или в монографиях (статьях), предметом которых являются история торговли, экономики, международного права, политики Дании, быт населения метрополии и ее колоний в различные исторические эпохи. В настоящей статье сделана попытка систематизировать эти данные, рассмотреть их в различных аспектах — социальном, политическом, экономическом, и сделать общие выводы. Датское королевство в пору своего величия в начале Нового времени владело колониями трех типов, географически и экономически весьма различавшихся: местными, т. е. балтийскими, заокеанскими южными (Вест-Индия, Ост-Индия, Гвинея) и одной северной (Гренландия). Балтийская экспансия Дании на востоке, начавшаяся в XIII в., успешно завершилась лишь в середине XVI в., когда за ней были закреплены северо-восточная Эстляндия, Курляндия, а также крупный и экономически наиболее развитый о-в Сааремаа. Отношения между датчанами и прибалтийским населением установились самые теплые, поскольку последнее видело в мощном датском королевстве с его лучшим на Балтике флотом гарантию от повторения разорительных походов Немецкого ордена, Московского государства и Польши на земли Балтии. Впрочем, наладить сколько-нибудь прочные экономические связи между новыми колониями и метрополией не удалось — под ударами шведских и московских войск эстляндские и курляндские территории были через десятилетие навсегда утрачены (кроме о-ва Сааремаа, которым Дания владела во второй половине XVI — первой половине XVII в.). Гораздо более длительной оказалась история заокеанских колоний. В ней большую роль сыграли датские торговые компании. Первая из них, Ост-Индская, основанная в 1616 г., проложила путь к Восточной Индии, где была основана крепость-порт Транкебар. Это был складочный пункт для товара, производившегося населением окружающего региона, — хлопчатобумажных и шелковых тканей. Они перевозились отсюда на Целебес и Яву в обмен на пряности, шелк, алмазы и т. д. Именно эти компактные, но дорогостоящие товары отправлялись затем в Данию. Из метрополии в Индию уходило ежегодно несколько судов, которые грузились в Транкебаре кроме указанных видов тканей перцем, гвоздикой и индиго. Впоследствии дела в Транкебаре пришли в упадок, чему причиной была Тридцатилетняя война, на протяжении которой не хватало средств для снаряжения больших судов. И в 1650 г. первая азиатская компания прекратила свою деятельность на 25 лет. Зато в 1670-х годах она получила право монопольной торговли на всем необозримом пространстве, открывавшемся за мысом Доброй Надежды [1, S. 124].  Форт Дансборг в Транкебаре В начале XVIII в. впервые доход от колониальной торговли стал стабильным, число акционеров компании возросло. В 1753 г. Колониальный совет Транкебара учреждает новую факторию Каликут на западном, Малабарском берегу Индии, чтобы направить поток индийского перца к причалам, где грузились датские корабли. В 1755 г. бенгальское правительство передает Азиатской компании области в долине р. Хугли с их главным городом Серампуром. Здесь возводится укрепленная фактория Фредерикснагор. Позже датская колония расширяется, включив в себя индийские города Акну и Паррапур. С 1732 по 1772 г. Азиатская компания ввезла в Данию товаров на 40 млн талеров, а отправила в колонии груз на 3/4 этой суммы. Этот экономический подъем датских колоний в Индии отразился на внутренней экономике последних. Теперь колонисты не ограничивались транзитной торговлей: здесь начинался выпуск и собственной продукции. На территории Транкебара работали полотняные, кожевенные и мыловаренные мануфактуры, чья продукция шла на экспорт. Таким образом, ост-индская торговля не только возродилась, но получила гораздо более надежный и экономически здоровый базис, чем это было прежде. В 1643 г. были учреждены Африканская и Вест-Индская компании. Первая из них заложила ряд факторий на берегу Гвинеи, а позднее — мощный форт Фредериксборг и крепость Кристиансборг. Вторая приняла в 1666 г. во владение фактически «бесхозный» о-в Сент-Томас (Виргинские острова). Здесь ценнейшей культурой был сахарный тростник, поэтому для его выращивания на плантации была налажена доставка рабов — с помощью Африканской компании. Сахар стоил в ту эпоху весьма дорого, а потребность в нем была огромной. Поэтому сахарное производство росло: к вест-индским владениям Дании в 1675 г. был присоединен необитаемый о-в Сент-Джон, вскоре покрывшийся плантациями. Для увеличения доходов от ввоза сахара в 1650-х годах в Копенгагене были созданы установки для рафинирования сырья. Но торговля с островами велась пока в скромных размерах. Для снаряжения каждого судна требовались свободные деньги, в которых компании часто ощущали острую нехватку. Поэтому к островам отправлялся всего один корабль в год [2, S. 189]. И лишь на рубеже XVII и XVIII вв. в вест-индской торговле наметились перемены к лучшему.  Кристиансборг В Дании был учрежден первый банк, который вел операции с наличной валютой (Kurantbanken), что значительно облегчило компаниям получение кредитов. В Вест-Индии датские промышленники заложили плантации на необитаемом французском о-ве Сен-Круа, а в 1733 г. группа предпринимателей выкупила его у французов за 160 тыс. талеров. По размерам остров превосходил старые владения в этом регионе, обладал плодородной почвой и в дальнейшем стал давать большую прибыль, чем все заокеанские колониальные владения Дании вместе взятые. В 1750-х годах осуществлялись планы превращения Копенгагена в главный северо-европейский центр рафинирования и перепродажи сахара, а город Шарлотта-Амалия, центр вест-индских колоний, стал ведущим коммерческим (в том числе и транзитным) пунктом для обслуживания океанской торговли между Европой, Вест-Индией и материковой Северной Америкой. Теперь датские Вест-Индские острова переходят в безраздельную собственность государства и тут же становятся зоной свободной торговли. При этом компания получила компенсацию в 22 бочонка золота, что равнялось 2 240 000 талеров [3, S. 245]. Формально острова превратились в часть Датско-Норвежского королевства, верховная власть на них была передана генерал-губернатору, а гражданское управление — государственным чиновникам-амтманам, как это было в самой Дании. Одновременно как в Вест-Индии, так и в Гвинее ликвидируется торговая монополия компаний — в духе фритредерства. В 1764 г. Шарлотта-Амалия получает статус свободного порта и действительно становится главным центром островной коммерции. Именно сюда доставляют рабов из Гвинеи, отсюда отгружается сахар, здесь идет перевалка грузов, доставлявшихся из стран-участниц той или иной войны, на датские нейтральные суда. Это прежде всего кофе, табак, хлопчатобумажные ткани и индиго — все из американских владений французской короны. Отсюда же европейские товары распределяются на другие острова архипелага. Была достигнута и первая из целей вышеупомянутого проекта — в 1790 г. Копенгаген по объему торговых операций уже занимал почетное, второе (после Лондона) место среди коммерческих центров Европы. После этого производство сахара резко увеличилось. Если во время перехода колонии к новым коммерческим законам (1755) стоимость этого продукта, доставленного в Данию, не превышала 100 тыс. талеров, то уже через 11 лет она возросла до 2,5 млн талеров и практически сравнялась с азиатской [4, S. 297]. Это обильное поступление сырья из островной колонии благоприятно сказалось на структуре экономики метрополии. В Дании появились сахарные заводы, где рафинировали сырец, в том числе для продажи за рубеж. Появились и крупные предприниматели, как скупающие плантации в Вест-Индии, так и строящие сахарные заводы в Дании. За этот же период число рабов на островах удвоилось, достигнув 17 000 человек [2, S. 243]. В Вест-Индии имели место и восстания рабов, но никаких мер по облегчению их положения не было предпринято. Наоборот, в 1765 г. была основана новая датская компания — Общество работорговли, для содействия расширению этого вида коммерции [4, 297]. И лишь в 1792 г. в отношении к работорговле начинается своего рода переходный период. По инициативе министра финансов, опиравшегося на творческую интеллигенцию, обсуждение этой проблемы широко велось в датской прессе. В результате король издает постановление, запрещающее ввоз рабов в колонии. Впрочем, изменилось немногое: прекратили лишь использовать труд беременных рабынь и детей. Тому имелось два объяснения: во-первых, дети цветных вскоре должны были стать единственным источником возобновления рабочей силы, а во-вторых, все более сказывалось влияние общественного мнения в самой метрополии — наступал век гуманизма [5, s. 238]. Между тем колонии приносили стабильную прибыль. Так, в 1732–1772 гг. в Данию было доставлено одной только Азиатской компанией ценностей на 40 млн талеров, тогда как за рубеж всего (т. е. не только на Восток) было вывезено товаров и серебра лишь на 30 млн талеров [6, s. 117–119]. По сравнению с другими сообществами предпринимателей именно Азиатская компания приносила в те годы наибольшие доходы — как акционерам, так и королевской казне. Торговля с Востоком стала для национальной экономики в этот период краеугольным камнем в процессе оборота капитала. Впрочем, уже к концу 1760-х годов индийские колонии стали давать меньше прибыли, чем значительно менее затратная китайская торговля, не требовавшая сооружения дорого-стоящих укреплений. Еще больше ситуация ухудшилась в начале XIХ в. Дания вышла из Наполеоновских войн экономически ослабленной, континентальная блокада подорвала ее внешнюю торговлю. Азиатская же компания была практически разорена и от этого удара так и не оправилась. Очередной удар по ее бюджету был нанесен в 1838 г., когда ее лишили монопольного права. Наконец, в 1845 г. компания прекратила свое существование: все датские владения в Индии были проданы Англии за 1 125 000 талеров [2, S. 239–240]. Африканские же территории казны, которые к XIX в. значительно разрослись (250 км только береговой полосы, т. е. большая часть современной Ганы), были утрачены по иной причине. В Гвинее постоянно вспыхивала межплеменные войны, в которых были вынуждены участвовать датчане, чтобы защитить «своих», т. е. присягнувших королю, африканцев. Эти убытки были слишком велики для компании, так и для державы, к которой с конца XVIII в. перешли ее владения. И в 1850 г., полностью разочаровавшись в своих надеждах на возобновление прибылей от африканских владений, Дания предлагает Англии всю свою гвинейскую колонию. При этом Копенгагеном была установлена стоимость будущей сделки — 285 тыс. фунтов стерлингов, но сошлись на 10 тыс. Цена совершенно ничтожная, но следует учесть, что эти земли давно были экономически невыгодны, принося лишь убытки [7, s. 273]. Что касается вест-индских колоний, то Американская война за независимость 1775–1783 гг. предоставила им новые возможности. Нейтральная Дания с выгодой использовала этот свой статус, особенно с 1780 г. Перевозки грузов воюющих стран давали прекрасную прибыль в условиях, когда весь их флот стоял в портах, опасаясь каперов противника. Напротив, датский флот стал расти, так как воюющие страны, пытаясь избавиться от приносящих убыток судов, сбывали их нейтралам по бросовой цене. Общий тоннаж кораблей под датским флагом с 1766 до 1784 гг. почти утроился, а копенгагенский порт пришлось расширять — имевшейся причальной стенки и складских помещений стало не хватать. При этом в грузообороте порта доминировали ввоз и вывоз именно вест-индских товаров. Их стоимость в 1782 г. составляла небывалую прежде сумму — 2,7 млн талеров из общего ввоза на 3,1 млн [7, s. 273; 5, s. 277]. Колония содействовала бурному росту имперского коммерческого мореплаванья и уникальному подъему национальной денежной экономики, как и единовременному превращению довольно скромного по европейским масштабам Копенгагена в торговый порт мирового значения. После известного политического кризиса 1783 г. Вест-Индская компания переходит в государственную собственность и после окончания Наполеоновских войн быстро возрождает свою экономику. Дания ежегодно получала из-за океана 10 тыс. тонн сахара и множество иных колониальных товаров [2, S. 249]. Новый европейский экономический кризис 1820 г., хотя и с опозданием, но докатился до заокеанской колонии. Повсюду в мире стало производиться много сахара (в Европе — свекольного), и цены на него упали вчетверо. Поэтому производство вест-индского тростникового сырца перестало окупаться. Владельцы плантаций стали разоряться. Не внушала оптимизма и демографическая ситуация: за полвека численность островного населения упала с 40 тыс. до 30 тыс. человек, среди которых европейцы составляли 2%, а доля датчан среди последних была вообще ничтожной [4, S. 364]. Выход был подсказан американцами уже во время Первой мировой войны. США предложили продать им острова за 25 млн долларов, опасаясь захвата их кайзеровской Германией. Мнения датчан по этому поводу разделились: одни были за продажу колонии, другие — против. Конфликт угас лишь после того, как в стране был проведен плебисцит. В результате за продажу островов отдали голоса 283 тыс. избирателей, против — 158 тыс. Официальная передача датской колонии состоялась 1 апреля 1917 г. В этот день в истории Дании завершилась колониальная эпоха, длившаяся 250 лет. Но это еще не было закатом Дании как империи. Новым словом в организации управления не только колониями, но и торгово-предпринимательскими институтами Дании за рубежом стала структурная система Восточно-Азиатской компании, образованной на исходе XIX в. В ней возродилась давно забытая практика, когда крупный купец одновременно был и коммерсантом, и владельцем транспортных судов, и руководителем производственного сектора. Основатели же Восточно-Азиатской компании во главе с Х. Ф. Тицгеном снова, но уже на более высоком уровне объединили торговлю, судоходство и промышленность в цельную триаду и подчинили ее единому стратегическому управлению. Главным направлением экономической стратегии новой компании стало создание системы товарообмена между Востоком и Балтийским морем на основе собственного колониального производства. Эти новые принципы, во-первых, быстро принесли экономический успех: компания обросла такими мощными дочерними предприятиями, как Русское Восточноазиатское пароходное общество и «The Siam Steam Navigation Company». А на Востоке (в частности, в Сиаме) развернулась лесная промышленность, были разбиты обширные плантации каучуконосов, началась добыча олова — все на основе свободного найма местной рабочей силы. Во-вторых, сама успешность применения новых принципов не только в теории, но и на практике наглядно продемонстрировала перспективность нового и архаичность старого, традиционного управления датскими колониями, да и всей колониальной системы в целом, на рассвете ХХ в. уже негодной. Наступала эпоха неоколониализма с ее новыми принципами как в размещении промышленных объектов вне метрополии, так и в найме рабочей силы, в менеджменте и т. д. Один из основоположников неоколониализма, датчанин Х. Ф. Тицген, сумев добиться самостоятельности в своей деятельности, превратил колониальную экономику своих компаний в мощный фактор общегосударственного развития. Но это произошло уже на закате колониальной империи, когда у руля индустриальных объединений, торговых и транспортных компаний встали менеджеры нового поколения, не имевшие ничего общего с типом «классического» управляющего колониального периода истории датского королевства. В истории этого периода чужеродным элементом, по крайней мере внешне, выглядит «гренландская модель» колониальной экспансии. Гренландия стала датской колонией в XVII в., а в 1721 г. на ее берегах появились первые жилища датчан-колонистов, решивших связать свою судьбу с величайшим островом мира. Во главе этих людей стоял пастор Ханс Эгеде (1686–1758), чьей миссией стало обращение в христианскую веру коренного народа Гренландии, язычников–инуитов (эскимосов). Покрывать расходы миссии должна была торговая компания, которую также возглавлял пастор. Предметом вывоза стал жир морского зверя и китов, на которых издавна охотились аборигены. Деятельность Х. Эгеде проповедями не ограничивалась. Встретившись с людьми каменного века, он поставил перед собой труднейшую задачу — ввести эскимосов в цивилизованный мир. Пастор боролся с наиболее кровавыми пережитками их доисторической культуры и с эпидемиями, знакомил аборигенов с начатками гигиены. Его жена Гертруда была верной его помощницей (она погибла в оспенном бараке). Х. Эгеде достиг заметных успехов, хотя уничтожить туберкулез на острове ему не удалось. В целом деятельность пастора и его жены сравнима с подвигом А. Швейцера в Африке. Даже когда торговая компания обанкротилась, «апостол Гренландии» остался на острове, чтобы в крайне тяжелых условиях довести дело своей жизни до конца. Колонизация огромных, редко населенных территорий острова была малоперспективной, не суля больших доходов. Но она продолжалась из надежды на смену экономической конъюнктуры в будущем. Заметную роль в этом процессе играла и протестантская этика, не позволявшая датчанам бросить на произвол судьбы новообращенных инуитов, по-прежнему страдавших от весенних голодовок, которые вкупе с болезнями вели к высокой смертности. Поэтому нужно признать, что экономическая политика датчан в Гренландии с самого начала отличалась от политики других метрополий. В XVIII в. частные компании несколько раз вкладывали капитал в экономику острова, но попытки эти проваливались одна за другой [8, S. 503–504]. Лишь в начале XIX в. доход Королевской Гренландской компании, сменившей частные фирмы, впервые превысил затраты, но стабильным, хотя и невысоким, он стал только к середине века. Часть прибыли от «гренландской торговли» стала поступать в фонд помощи островитянам. Казна, заинтересованная в увеличении объемов охотничьей добычи, повышала закупочные цены, разнообразила ассортимент товаров в факториях, выдавала новым семьям бесплатные винтовки. Чтобы предотвратить спаивание и ограбление гренландцев (как это случалось на севере Америки, Канады и Азии), на остров был запрещен въезд частных лиц, в том числе датчан. Гренландия стала «закрытой». Эти и иные меры постепенно привели к снижению уровня смертности: в течение первой половины XIX в. число жителей Западной Гренландии увеличилось на 40% и достигло 10 тыс. человек [2, S. 151, 154]. Способы охоты, впрочем, оставались прежними. Перемены касались главным образом быта эскимосов. Появилась привычка к привозным товарам, более того, их потребление становилось престижным. Самые, казалось бы, невинные из них, вроде потребления кофе, разлагали общество. Немецкий путешественник записал в 1863: «Хижина, куда я вошел, протекала. Единственным что защищало от дождя полуголых, грязных, голодных людей, был кусок шкуры — это было все их достояние. Но и его предложили мне в обмен на кофе» [10, с. 36]. Датские власти пытались бороться с создавшимся положением, полагая, что причина его в утрате эскимосами самоуважения, традиционных этических норм. Поэтому прилагались усилия для духовного развития гренландцев, воспитания в них национальной гордости. Инспектор Восточной Гренландии Г. Ринк основал в 1861 г. газету на эскимосском языке, в которой публиковал патриотические статьи и предания о великих охотниках. Им были организованы выборные датско-эскимосские Советы попечителей, ведавших социальной поддержкой. При нем было открыто несколько больниц, началась подготовка медсестер-эскимосок. В целом же во второй половине XIX в. колониальная политика Дании, будучи патерналистской, направлялась не на интенсификацию промыслового хозяйства, а на консервацию до поры до времени традиционных форм экономики. Главной целью было «сохранить население острова» [11, с. 34]. Дотации увеличивались, в результате численность населения выросла в указанный период еще на 30%, а вывоз товаров сократился на 20% [9, S. 364]. Зато к началу XX в. сохранились не только традиционные формы хозяйства, но и, что более важно, теснейшая связь народа с окружающей средой и стремление ее защитить. Однако все заметнее становилось разложение натурального хозяйства, шедшее параллельно с расширением торговли, распространением факторий. На рубеже веков из-за некоторого потепления морской зверь стал уходить все дальше на север. Но взамен у побережья появились огромные массы рыбы. Возникла возможность базировать экономику на ее промышленном лове. Инуитов стали привлекать к работе на промышленных предприятиях, основанных на местном сырье, т. е. отчасти и на добыче охотников и рыбаков. Но эта социальная политика разрушала традиционное общество. Психика аборигенов не выдерживала столь резкого перехода от традиционной модели жизни к новой, завезенной из Европы. Распространились и соматические заболевания, вызванные неумеренным потреблением европейских продуктов, т. е. невиданных здесь раньше хлеба, консервов и т. д. вместо сырых мяса и рыбы, на которые в экстремальных климатических условиях острова испокон века была «настроена» физиология аборигенов. Однако постепенно организм — человеческий и общественный — вошел в колею ХХ в. Этого захотели сами эскимосы: выпускник даже средней школы не спешил возвращаться в закоптелый чум своих отцов, а ведь со временем появилось немало гренландцев и с высшим образованием, которое им бесплатно предоставляла Дания. Это были экономисты, учителя, люди искусства, но прежде всего политики. И колониальный статус Гренландии, будучи даже самым благоприятным для аборигенов, уже не удовлетворял их. Как, впрочем, и датчан, отчего в 1953 г. Гренландия стала равноправной частью Датского королевства, такой же, как, например, балтийский о-в Борнхольм. Однако эскимосские политики, осознававшие всю глубину различий между своей и датской культурой, с того же 1953 г. начали борьбу за автономию своей родины. Важно отметить, что эта борьба встретила поддержку большинства датчан, всегда сочувственно относившихся к своим гренландским соотечественникам. Важная победа была достигнута в 1979 г., когда управление всеми внутренними делами острова было решено передать выборному гренландскому парламенту (ландстингу) и местной администрации (ландсстюре). Но эскимосские депутаты датского парламента (фолькетинга) уже ставили вопрос о полном гренландском самоуправлении (сельвстюре). И при поддержке датских коллег в 2005 г. была создана парламентская комиссия по этой проблеме (Selvstyrekomissionen), которая взяла на себя подготовку изменений в датской конституции и будущего референдума по этому вопросу. Между тем в 2007 г. случилось давно ожидавшееся: 16 сентября в ООН, наконец, была принята (после десятилетий доработок и консультаций) Декларация о правах коренных народов [12]. Статья 3 Декларации гласит: коренные народы «сами свободно устанавливают свой политический статус», а статья 26 устанавливает право этих народов на «земли, территории и ресурсы, которые они традиционно занимали, использовали и приобретали». Этот акт получил историческое значение во всемирной истории деколонизации. Он выбил почву из-под ног борцов с «этническим сепаратизмом» (т. е. с правом народов на самоопределение), превратив само понятие «сепаратизм» в безнадежно архаичное. Вместе с тем Декларация придала новые силы гренландцам и датчанам, утверждавшим приоритет воли народа по отношению к государству. В стране состоялся референдум, на котором подавляющее большинство датских и эскимосских участников проголосовало за выход Гренландии из состава королевства. И 21 июня 2009 г. королева Маргрете II, прибыв в Гренландию, тепло поздравила с общей победой главу местных «сепаратистов» Й. Мотцфельда, передав ему акт, превращавший эскимосов из ее подданных в самостоятельный народ. Над островом взвился флаг нового государства. Но при этом гренландцы получили гарантию предоставления им всей той поддержки Дании, которой они располагали ранее, т. е. в получении высшего образования, технической помощи, командировании специалистов, которых пока не хватает на острове, и, главное, той же ежегодной денежной субсидии (3,2 млн крон), которая выделялась в последнее время. Эта помощь продлится до тех пор, пока бывшая колония полностью не станет на ноги и в материальном отношении. Подводя итоги, отметим, что в бывшей Датской империи действовало несколько моделей ее колониальной политики. В эстляндской и курляндской колониях XVI в. датчане провозгласили принцип равноправия местного населения с представителями метрополии. Тем самым они приобрели признание аборигенов, ранее поставленных постоянными кровавыми нашествиями с юга и востока на грань физического уничтожения. Но к «цветным» жителям датских колоний отношение было иным. И даже в более поздние XVII–XVIII вв. в заокеанских владениях империи была принята модель, основанная на эксплуатации рабского труда. Далее, на протяжении XIX в. вырабатывалась колониальная политика с все более гуманными и демократичными чертами, а на рубеже веков ее сменяет модель неоколониализма, основанная на принципе труда по найму. Фактически это был факт освобождения труда и для аборигенов — здесь колонизаторы Дании стали первопроходцами. Наконец, в начале XXI в. датчане совершенно добровольно расстались с 98% территории своего государства ради исполнения воли народа бывшей гренландской колонии королевства — акт, беспримерный как в истории деколонизации, так и во всеобщей истории в целом. Поэтому нетрудно сделать вывод о том, что датские модели колониальной политики, сменяясь с наступлением каждой новой эпохи, вполне соответствовали духу времени, это их общая черта. В то же время следует признать, что в течение последних 100–120 лет датчане дважды предлагали миру новые, неведомые ему пути решения колониальных проблем. Возможно, датский пример окажется заразительным, и правительства бывших империй найдут в себе силы осознать, что насильственное удержание малых народов в старых государственных рамках становится не только нереспектабельным, но и, по большому счету, нерентабельным, как, впрочем, любой атавизм, дошедший до наших дней из давно минувших эпох «собирания земель». Литература 1. Olsen G. Den unge enevælde, 1660–1721. København: Politikens forlag. 1964. 512 sider. 2. Vibæk M. Den danske Handels Historie fra de ældste Tider til vore Dage. København: Gyldendalske Boghandel — Nordisk Forlag. 1932–1938. 478 Sider. 3. Danmarks Riges Historie 1699–1814 af E. Holm // Danmarks Riges Historie. Bd. V. København: Thieles Bogtrykkeri. 1903. 719 + IX Sider. 4. Nielsen A. D¨anische Wirtschaftsgeschichte. Jena: G. Fischer. 1933. 600 Seite. 5. Petersen K. Danmarkshistoriens hvorn˚ar skete det. Fra istiden til 1960 ˚ar for ˚ar. København: Politikens forlag. 1969. 447 sider. 6. Vibæk J. Reform og fallit. 1784–1830. København: Politikens forlag.1964. 528 sider. 7. Skovmand R. Folkestyrets fødsel. 1830–1870. København: Politikens forlag. 1964. 544 sider. 8. Dybdahl V. De nye klasser. 1870–1913. København: Politikens forlag. 1965. 512 sider. 9. Trap J. P. Danmark. Bd. 14: Grønland. København: Gad. 1971. 689 Sider. 10. Возгрин В. Е. Гренландия и гренландцы. М.: Мысль, 1984. 160 стр. 11. Файнберг Л. Проблемы этнической истории зарубежного Севера (Аляска, Канадская Арктика, Лабрадор, Гренландия). М.: АН СССР Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая.1968. 40 стр. 12. <http://www.finugor.ru/?q=node/4756> (дата обращения: 29.04.2010). Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2010. Вып. 4, C. 53-60. Империя Маурьев 2013-12-21 09:00 Saygo Saygo: И. Ю. Бабушкина ПОЛОЖЕНИЕ КАРМАКАРОВ И РАБОВ В ДРЕВНЕИНДИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЭПОХИ МАУРЬЕВ (ПО ДАННЫМ ИСТОЧНИКОВ) Эпоха Маурьев (сер. 1 тыс. до н.э. - 1 в. до н.э.) ознаменовала собой начало расцвета государства в Древней Индии. В этот период уже складывается сложная социальная структура древнеиндийского общества. По сравнению с предыдущим ведийским периодом, в эпоху Маурьев гораздо более широкое распространение и значительное развитие получил институт рабства. Вместе с тем, в связи с появлением частных хозяйств, возникла необходимость в наемной рабочей силе. Даже в мелких хозяйствах, не говоря о крупных, время от времени не хватало рабского труда, и возникала потребность в дополнительной рабочей силе (например, во время сезонных полевых работ), и тогда хозяева предпочитали не приобретать рабов, которых требовалось содержать постоянно, а нанимать временных работников, содержать которых нужно было лишь в период выполнения ими работы. Наемные работники, называемые в санскритских источниках словом karmakara, а в палийских источниках - kammakara [10, c. 133], представляли собой промежуточный слой между свободными общинниками и рабами. Что касается города и ремесленного производства, то здесь возникновение наемного труда было связано с общим ростом товарного производства и увеличением материального благосостояния господствующих социальных групп. Кармакарами обычно становились разорившиеся общинники, которые лишались земли и орудий производства и вынуждены были предлагать свой труд соседям или владельцам крупных хозяйств. Таким образом, наемными работниками становились в основном вайшьи, поскольку их занятия - земледелие, скотоводство, торговля - приводили к разорению чаще, нежели другие виды деятельности [5, c. 324]. Однако кармакарами могли стать и представители других варн, в особенности это касалось шудр. Так, в главе «Артхашастры» «Заселение и обустройство области» сообщается следующее: «Он должен произвести устройство селений, состоящих преимущественно из шудр, занимающихся земледелием» (II, 1,2) [1, c. 52]. Нередким явлением было и разорение представителей высших варн и превращение их в наемных работников. Иногда случалось так, что наемный труд в семье дваждырожденного становился наследственным, и тогда вся семья превращалась в шудр [5, c. 324]. Низкий статус кармакаров был ближе к рабскому, нежели к статусу свободных общинников. Доказатель-ством этому может служить тот факт, что в «Артхашастре» описанию положения рабов и наемных работников посвящена одна и та же глава «Dasakarmakara» (т.е. «Правила, касающиеся рабов и работников») [1, c. 197]. Человек, не имеющий средств производства, был презираем обществом, а обслуживание других считалось недостойным, унизительным занятием. Об этом красноречиво свидетельствуют «Законы Ману»: «Надо тщательно избегать всякого дела, зависящего от чужой воли… Все, зависящее от чужой воли, - зло; все, зависящее от своей воли - благо…» (IV, 159-160) [8, c. 178]. Даже брахманы, совершавшие обряды и обучавшие Ведам за плату, не пользовались тем уважением, которое полагалось проявлять к представителям их варны [9, c. 149-150]. Труд наемных работников чрезвычайно широко использовался в сельском хозяйстве. По некоторым данным, приведенным в литературе, кармакары, занятые в сельском хозяйстве, были самой многочисленной группой наемных работников [10, c. 138]. Одна из глав «Артхашастры» «Надзиратель за земледелием» предписывает обрабатывать царские земли «…применяя для этого труд рабов, наемных работников и отрабатывающих штраф» (II, 24,2) [1, c. 121]. Кармакары на царских угодьях трудились пастухами, доильщиками, маслоделами, а также выполняли различные работы по обслуживанию царских конюшен и слоновников - в главах «Артхашастры» «Надзиратель за лошадьми», «Надзиратель за слонами» (II, 30-31) упоминаются дрессировщики, конюхи, кучера, ветеринары, сторожа, работники, готовящие корм, и др. В частных хозяйствах кармакары также занимались земледелием и скотоводством. Так, в той же «Артхашастре» сообщается: «За того, кто уклоняется от совместной постройки оросительного сооружения, должны выполнить эту работу его работники и волы…» (II, 1,13). Кроме того, «для работника по найму условия его работы должны быть известны соседям…» (III, 13,20) [Там же, c. 52, 87-94, 199]. О труде наемных работников в частных хозяйствах свидетельствуют и «Законы Ману»: «Пастух, получающий вознаграждение в виде молока, может с разрешения хозяина доить одну лучшую корову из десяти для своего прокормления» (VIII, 231) [8, c. 247]. Как еще одно свидетельство существования наемного труда в частных хозяйствах можно рассматривать сведения из «Милиндапанхьи» (кн. V): «Или, например, государь, земледелец очищает сначала поле от сорняков, палок и камней, пашет его и засевает, заливает его обильно водою, охраняет его и стережет [от птиц и зверей], жнет, обмолачивает и получает наконец много зерна, и тогда все нищие, жалкие, убогие, неимущие люди оказываются в его власти» [7, c. 326]. Труд кармакаров-наемников довольно широко использовался и в ремесле. В царских прядильных мастерских трудилось множество наемных работников (преимущественно женщин), которые занимались изготовлением шерстяных, шелковых, холщовых, хлопчатобумажных тканей, веревок, доспехов, ремней и т.д. Об этом свидетельствует одна из глав «Артхашастры» «Надзиратель за прядильным делом» (II, 23) [1, c. 119-120]. По всей видимости, труд кармакаров также применялся наряду с трудом рабов при добыче полезных ископаемых, чеканке монет, изготовлении ювелирных изделий. Вместе с тем, в частных ремесленных хозяйствах широко практиковалась такая форма наемного труда как ученичество [5, c. 326]. Срок ученичества был, по всей видимости, длительным. По крайней мере, как можно большая его продолжительность была выгодна хозяину. Если ученик осваивал ремесло раньше, чем истекал срок обучения, он все равно до окончания срока оставался в доме мастера, где был неоплачиваемым работником. Свидетельство этому мы находим в тексте «Яджнавалкья-смрити»: «Подмастерье, даже прошедший обучение, пусть пребывает в доме учителя до окончания [обусловленного] срока, потребляя приобретенное у учителя [и] возвращая плоды этого [ремесла]» (II, 184) [15]. По завершении срока обучения мог остаться у мастера, но уже в качестве оплачиваемого работника. Кармакары, наряду с рабами, являлись и домашними слугами. При царском дворе их было особенно много. «Артхашастра» приравнивала наемных слуг царского двора к государственным служащим и предписывала выплачивать им жалованье, об этом свидетельствует глава «О содержании государственных служащих» (V, 3) [1, c. 271-274]. В «Законах Ману» также сообщается о царских слугах и назначении содержания для них: «Для женщин, занятых на царской службе, и вообще слуг, следует установить ежедневное содержание, соответствующее положению и работе» (VII, 125) [8, c. 220]. В отличие от рабского труда труд кармакаров был оплачиваемым и регулировался договорными отношениями (с этим некоторые исследователи связывают то обстоятельство, что в источниках, в частности, в «Артхашастре», упоминаний о наемных работниках больше, чем упоминаний о рабах) [1, c. 133]. Обычно кармакаров нанимали на определенный срок - от одного дня до одного года [3, c. 128], работников, занимавшихся сельским хозяйством, в основном нанимали на сезон. Нередко между работодателем и работником заключался договор, в котором оговаривались размеры и формы оплаты труда, в случае отсутствия такого договора оплата труда наемного работника определялась следующим правилом, установленным «Артхашастрой»: «Работники, занятые в земледелии, получают 10-ю долю урожая, в скотоводстве - 10-ю долю масла, и занятые в торговых операциях - 10-ю долю товара, если не было особого договора относительно заработка» (III, 13,21) [1, c. 199]. Аналогично оплачивался и труд пастухов, в упомянутом нами шлоке из «Законов Ману» [8, c. 247]. Об этом же говорит «Яджнавалкья»: «Кто, не установив [размер] жалованья, тем не менее, принуждает выполнять работу, того царь должен заставить уплатить 1/10 часть товаров, скота и зерна» (II, 194) [15]. В этом плане, пожалуй, самой бесправной категорией кармакаров были домашние слуги, находившиеся вне царского двора. Эти работники не заключали предварительных соглашений с хозяевами, поэтому полностью зависели от их воли. В этой связи такие слуги по статусу напоминали рабов более, чем другие категории кармакаров [9, c. 149-150]. За нарушения работниками и работодателями условий договора устанавливались жесткие наказания. Так, «Яджнавалкья» предписывает, что «Получивший плату [работник], оставляющий работу, пусть даст вдвое больше [платы]; а если [он ее] не получал, должен уплатить столько же [плату]» (II, 193). Там же читаем: «Носильщика надо заставить возместить товар, пропавший не [в результате вмешательства] царя [или] рока (т.е. по его вине). А [если он] препятствует отправке [товаров], должен быть принужден заплатить вдвое больше [обусловленной] платы (II, 197) [15]. Таким образом, источники подчеркивают ответственность работника за невыполнение условий договора. «Артхашастра» сообщает также и об ответственности работодателя: если работник готов к выполнению работы, а хозяин не желает ее предоставить, с него взымается штраф размером в 12 пана (III, 14,3); а если хозяин отказывается выдавать работнику плату, с него «…взыскивается штраф в размере 10-й части указанной платы или же 6 пана» (III, 13,23) [1, c. 200, 201]. Таким образом, как свидетельствуют источники, кармакары по своему положению были ближе более к рабам, нежели к свободным производителям. Безусловно, это были лично свободные наемные работники, их судьба не зависела целиком от воли хозяина; они не подвергались жестокому обращению (по крайней мере, в источниках сведений об этом нет), но несомненно их положение как подневольных зависимых людей. Они не имели собственных средств производства, были заняты обслуживанием других, не пользовались в обществе уважением, что приближало социальный статус кармакаров к статусу рабов. Не имея власти над жизнью своих работников, хозяева имели власть над их трудом, чем преимущественно и пользовались - лишь в очень редких случаях работник мог рассчитывать на выгодный для себя договор. Меры наказания для работников за несоблюдение условий договора были куда более жесткими, чем для работодателей. Кроме того, бытовые условия, в которых жили кармакары, мало чем отличались от условий жизни рабов. Так, по данным «Артхашастры» «…Отруби (поступают) рабам, работникам и поварам…» (II, 15,34) [Там же, c. 102], - т.е. наемным работникам полагалось давать ту же пищу, что и рабам. В силу всех этих «законодательных ограничений» кармакары, формально стоя на социальной лестнице на ступеньку выше рабов, фактически мало чем от них отличались. Что же касается собственно рабства, то по сравнению с Ведийским периодом, в эпоху Маурьев оно получило гораздо большее распространение и развитие в Древней Индии. Данные источников позволяют нам выявить основные черты и особенности рабов в маурийский период. Как известно, рабство в Индии возникло еще в эпоху «Ригведы», когда арийские племена, расселившиеся по территории Индии, захватывали в плен и обращали в рабов представителей коренных индийских народов. Словом, которым арии называли эти народы - «даса» (dasa) - стали впоследствии обозначаться рабы, и в источниках маурийской эпохи рабы в большинстве случаев называются именно так. Однако, если в ранневедийский период главным, и практически единственным источником рабства были военные захваты, то для эпохи Маурьев было характерно разнообразие для обращения людей в рабство, и именно на этом сновании в письменных источниках выделяются категории рабов. Причем, в разных источниках приводятся разные классификации. Так, в «Законах Ману» (VIII, 415) перечисляются семь категорий рабов: «Захваченный под знаменем, раб за содержание, рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по наследству и раб в силу наказания - таковы семь разрядов рабов» [8, c. 259]. Другой древний источник - «Винная-питака» - сообщает следующее: «А вот, монахи, что [такое] раб-даса - имеется четыре [разряда] рабов: «рожденный в доме», «захваченный в битве», «ставший рабом по собственному желанию»; …«купленный за деньги» [12, c. 176]. «Дигха-никая» (II, 35) упоминает человека, который стал рабом по собственному желанию [11]. Но из всех источников наиболее полную и подробную классификацию рабов приводит «Артхашатра», целый раздел которой (III, 13) посвящен рабству - проблемам свободного и рабского статуса, условиям возникновения зависимости и условиям освобождения [6, c. 4]. В источнике выделяются разнообразные категории рабов: рожденные в доме владельца, отданные в залог, продавшие сами себя, взятые в плен в бою, унаследованные, полученные в подарок, купленные [1, c. 197-199]. При этом каждая из названных в источниках категорий рабов относилась либо к разряду пожизненных, либо временных рабов [2, c. 149]. Следует отметить, что самой многочисленной категорий рабов, по мнению индологов, были рабы по рождению, относившиеся к пожизненным рабам [5, c. 314]. Рабами по рождению были дети рабынь, они являлись самой бесправной категорией рабов, выход из рабского состояния для них был практически невозможен, а те послабления, которые иногда вынуждены были допускать хозяева, на них почти не распространялись. Впрочем, одна привилегия у рабов по рождению все-таки была, и ее провозглашала «Артхашастра»: «Ребенок, рожденный владельцем от рабыни, подлежит освобождению вместе с матерью. Если такая мать связана своим существованием с данным домом, то ее мать, брат и сестра должны быть освобождены» (III, 13,18) [1, c. 199]. При этом сын рабыни, рожденный от хозяина, становился законным сыном своего отца и приобретал равные права с остальными своими братьями. Вместе с тем следует отметить, что буддийские трактаты такого не предусматривали - согласно канонам буддизма «даже сын царя, рожденный от рабыни, должен был оставаться рабом, так же как его мать» [14, c. 161]. Еще одну категорию рабов в Индии эпохи Маурьев составляли военнопленные, или, как они обозначались в источниках, «захваченные в битве» [12, c. 176]. Согласно представлению, бытовавшему у всех древних народов, военнопленный становился рабом потому, что победитель, сохраняя побежденному жизнь, получал право распоряжаться ею по собственному усмотрению [5, c. 314]. В буддийских трактатах раб, захваченный в бою, определялся как пожизненный [3, c. 131], однако «Артхашастра», так же как и в случае с рабами по рождению, облегчает участь военнопленных, рассматривая возможность их освобождения при определенных условиях: «Если арий (свободный человек) взят в плен в бою и сделан рабом, то он должен быть освобожден за половину цены в соответствии со временем исполнения им работ [в плену]» (III, 13,15) [1, c. 199]. Продажа человеком самого себя и отдача в залог себя или своих родственников считались временными формами рабства. О них весьма подробно повествует «Артхашастра», и, согласно ее данным, положение этих двух категорий рабов - заложенных и проданных - практически не различается [4, c. 88]. В то же время в трактате Каутильи не одобряется как рабство вообще («…для ариев не должно быть рабства» ( III, 13,3)) [1, c. 197], так и те его формы, которые связаны с продажей и залог ом. Так, продажа человека в рабство другим человеком, согласно «Артхашастре», каралась штрафом, размер которого изменялся в зависимости от варновой принадлежности проданного, от того, совершеннолетний он или нет (продажа несовершеннолетних наказывалась строже, а совершеннолетие наступало, вероятно, в восемь лет) [14, c. 140], и оттого, родственники его продали или посторонние люди. Для того, кто продал в рабство брахмана, полагалась смертная казнь, при этом аналогичным наказаниям подвергались также покупатели и свидетели (III, 13,1-2) [1, c. 197]. По возмещении суммы, в обеспечение которой был отдан заложенный, рабу возвращалась свобода, то же самое касалось и тех рабов, которые продавали себя. Детей временных рабов «Артхашастра» провозглашала свободными людьми: «Потомство человека, который сам себя продал в рабство, следует считать арийским (т.е. свободным)» (III, 13,11) [Там же, c. 198]. При этом речь в указанной статье идет, видимо, только о тех детях, которые появились у человека в период нахождения его в рабстве, поскольку дети, родившиеся у отца до его порабощения, были детьми свободного человека, и их свобода подразумевалась сама собой. «Артхашастра» также запрещала поручать временным рабам грязные работы, которых свободные люди обычно не выполняли. Защищал закон и женщин - временных рабынь - насилие над которыми со стороны хозяина запрещалось. Нарушение хозяевами этих запретов влекло за собой потерю суммы, отданной за заложенного (III, 13,7) [Там же]. Еще одной категорией временного рабства было рабство за совершенное преступление. Если человек, приговоренный к денежному штрафу, был не в состоянии его оплатить, закон допускал замену штрафа работой. Упоминание об этом мы встречаем и у Ману, и в Артхашастре: «Кшатрий, вайший и шудра, не могущие уплатить штраф, освобождаются от долга работой; брахману полагается отдавать долг постепенно» (IX, 229) [8, c. 283]. Или: «Лицо, которому назначено уплатить штраф [и не может его заплатить], должно выкупиться работой» (III, 13,14) [1, c. 198]. Таким образом, люди, отданные в рабство в качестве наказания, становились своего рода государственными рабами, поскольку работы они выполняли в основном в пользу государства - трудились на полях, на рудниках, в мастерских [14, c. 144]. Однако в законе имеются сведения и о выполнении осужденными работ в пользу частных лиц: «[Выигравший дело] обвинитель может по назначении наказания [для обвиняемого] заставить последнего исполнять работы в свою пользу» (III, 1,20) [1, c. 160]. Рассматривая положение рабов в Индии эпохи Маурьев, прежде всего следует сказать о том, что в источниках того периода (в частности, в «Артхашастре») слово «даса» (dasa), которым, как нам известно, в Древней Индии обозначались рабы, употреблялось в двух значениях - широком и узком. В широком смысле это слово обозначало вообще все категории зависимых людей (как пожизненных рабов, так и временных), в узком же смысле - только тех рабов, для которых рабское состояние являлось постоянным и, за очень редким исключением, не могло быть отменено [6, c. 4-5]. Когда говорится о положении рабов, обычно имеется в виду узкое значение термина «даса», т.е. рабы по рождению и другие рабы, чья зависимость была постоянной. Именно в этом смысле в большей степени, на наш взгляд, и целесообразно говорить о рабстве. Варновая система, зародившаяся в Индии в поздневедийский период и получившая существенное развитие в маурийскую эпоху, безусловно, не могла не оказать влияния на институт рабства. Как уже говорилось выше, для ариев, каждый из которых находился в одной из четырех варн, рабское состояние считалось недопустимым. (Об этом мы можем судить на основании уже приводившегося отрывка из «Артхашастры» (III, 13,3)) [1, c. 197], а потому рабами в полном смысле этого слова - пожизненными - становились только представители неарийских народов, находившиеся вне варнового деления. Члены собственно арийского общества, даже шудры - представители низшей варны, могли попасть лишь в неполную, временную зависимость [4, c. 89]. Главной отличительной особенностью раба было отсутствие права на свою личность. Раб не принадлежал сам себе, он был собственностью своих хозяев, полностью подчинялся им, и его участь целиком зависела от их воли и желания. Об этом явно свидетельствуют буддийские источники, в частности, «Дигха-никая»: «Вот прежде я, был рабом, не зависящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочу, теперь же я освободился от рабства, став зависящим от себя, не зависящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочу» [11]. Являясь имуществом, пожизненные рабы рассматривались в качестве разновидности домашнего скота. Об этом свидетельствует отрывок из «Артхашастры», в котором говорится о правилах продажи животных и рабов: «[При продаже] четвероногих возможно расторжение сделки в течение 1½ месяцев, а [при продаже] людей (т.е. рабов) - в течение года» (III, 15,12) [1, с. 205]. Точно так же как животных и другое имущество, рабов дарили, закладывали и передавали по наследству. Если при дележе наследства оказывалось, что наследников больше, чем рабов, рабы оставались собственностью всей семьи и служили своим хозяевам по очереди [5, c. 310]. Отсутствие у раба права на свою личность порождала и его юридическую неправоспособность. Так, раб не мог заключать от своего имени сделки (III, 1,8) [1, c. 158] и выступать свидетелем в суде (VIII, 66) [8, c. 235]. Однако, бывали исключительные случаи, когда приходилось отступать от этих правил - так, например, в «Законах Ману» сказано, что «при отсутствии надлежащих свидетелей» раб может давать в суде показания (VIII, 70) [Там же], однако в целом пожизненные рабы были лишены какой бы то ни было юридической самостоятельности. Не обладали рабы и правом собственности на свою рабочую силу и результаты своего труда, а имущество рабов считалось имуществом их хозяев: «Жена, сын и раб - трое считаются не имеющими собственности; чьи они, того и имущество, которое они приобретают» (VIII, 416) [Там же, c. 259]. Каноны буддизма запрещали принимать рабов в монашескую общину: [12, c. 176-177] прием раба в общину означало его укрывательство, что нарушало права собственности, в соблюдении которых монастыри были очень заинтересованы, ибо они сами являлись крупными собственниками. Вообще, если говорить об отношении буддийской религии к рабству, то следует заметить, что Будда объяснял рабское состояние следующим образом: если человек рожден рабом, то это произошло вследствие каких-либо дурных поступков, совершенных им в прошлой жизни, и лучшее, что раб может сделать для облегчения своей участи, - покорно принять свою судьбу, безропотно слушаться своего хозяина, исполнять его волю и терпеть любое обращение с собой. Полная покорность раба своей участи, согласно Будде, гарантировала ему лучшую долю в следующей жизни [14, c. 96-97]. Более того, полное подчинение пожизненного раба своему господину диктовалось не только законом, но и религией. И хотя Будда предписывал хозяевам хорошо обращаться со своими рабами: кормить их досыта, не поручать непосильной работы, давать достаточно времени на отдых и т.д. [Там же, c. 96] - нередки были случаи жестокого обращения господ с рабами. Рабов могли безнаказанно убивать, жестоко избивать, отрезать им нос и уши, клеймить раскаленным железом, заковывать в цепи. Женщин-рабынь хозяева очень часто принуждали к сожительству, при этом заставляли их сожительствовать не только с собой, но и со всеми, с кем хозяевам было угодно. Таким образом, вопреки распространенному мнению о том, что в Индии эпохи Маурьев рабовладение носило очень гуманный характер (такая точка зрения возникла благодаря сочинениям античных авторов, в частности «Географии» Страбона, утверждавшего, «…что ни один индиец не имеет у себя в услужении рабов» (XV, I,53)) [13, c. 659], положение пожизненных рабов было крайне тяжелым. Сфера применения рабского труда была чрезвычайно широка. Множество рабов трудились в царских поместьях, о чем свидетельствует «Артхашастра» в главе «Надзиратель за земледелием» (II, 24), в которой говорится о правилах возделывания царских земель [1, c. 121-124]. Рабы занимались земледелием и скотоводством и в частных хозяйствах, владельцами которых были как крупные, так и мелкие хозяева земли. Рабский труд использовался и в монастырских хозяйствах; и хотя, как уже говорилось выше, раб не мог быть принят в монашескую общину, но рабов включали в разряд слуг монастыря, в обязанности которых входили возделывание земли, сбор урожая и прочие сельскохозяйственные работы. Труд рабов в ремесле использовался не столь интенсивно. Это, возможно, было связано с тем, что ремесленники не желали раскрывать посторонним людям свои профессиональные тайны [3, c. 12-133]. Тем не менее «Артхашастра» (II, 23) сообщает о труде рабов в царских прядильных мастерских [1, c. 119-120] и частном производстве. Многочисленная рабская сила использовалась в качестве домашней прислуги в домах знати, в том числе и при царском дворе. Об этом также свидетельствует источник: «Рабыни пусть исполняют обязанности банщиков, массажистов, приготавливающих ложе, прачек и изготовителей гирлянд, или же [пусть этим занимаются] находящиеся под их наблюдением искусные в этих занятиях лица» (I, 21,8) [Там же, c. 50]. И все-таки, несмотря на то, что рабство в маурийской Индии было весьма распространенным явлением, и в рабском состоянии находилось большое количество людей, рабский труд в хозяйстве не являлся преобладающим. Состоятельные индийцы и люди среднего достатка охотно использовали труд временно наемных, но зависимых от хозяев кармакаров, на положении которых мы останавливались ранее, но при этом основную часть рабочей силы составляли свободные наемные работники, получавшие жалованье за свой труд, и, соответственно, более заинтересованные в его результатах. Список литературы 1. Артхашастра или наука политики/ пер. с санскрита. М. - Л., 1959. 802 с. 2. Бонгард-Левин Г. М.Древняя Индия: история и культура. М., 2008. 288 с. 3. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. М., 1973. 408 с. 4. Бонгард-Левин Г. М. Общество и государство Древней Индии: по материалам «Артхашастры» // Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия: история и культура. М., 2008. 408 с. 5. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. СПб., 2001. 813 с. 6. Вигасин А. А. «Устав о рабах» в «Артхашастре» Каутильи // Вестник древней истории. 1976. № 4. С. 3-19. 7. Вопросы Милинды (Милинда-панхья)/ пер. с пали А. В. Парибок; под ред. В. Г. Эрмана. М., 1989. 488 с. 8. Законы Ману// Бабушкина И. Ю. Юридические памятники Древнего Востока: практикум. Архангельск: ПГУ, 2008. С. 106-342. 9. Ильин Г. Ф. Основные проблемы рабства в Древней Индии // История и культура Древней Индии / под ред. В. В. Струве и Г. М. Бонгард-Левина. М., 1963. 269 с. 10. Медведев Е. М. Karmakara и bhrtaka: к проблеме формирования низших каст // Касты в Индии / под ред. Г. Г. К о-товского. М., 1965. С. 133-149. 11. Палийский канон. Дигха-никая. Собрание больших поучений. Силаккхандхавагга. Первый раздел, сутты I-XIII [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dhamma.ru/canon/dn/digha.htm> (дата обращения: 29.09.11). 12. Самантапасадика. III. 1000-1001 // Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия: история и культура. М., 2008. 408 с. 13. Страбон.География. М., 1964. 772 с. 14. Чанана Д. Р.Рабство в Древней Индии: по палийским и санскритским источникам / пер. с англ. М., 1964. 240 с. 15. Яджнавалкья-смрити. Кн. 2 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vostlit.info/Texts/Documenty/Indien/I/YajnavalkyaSmriti/frametext2.htm> (дата обращения: 27.09.11). Крещение княгини Ольги 2013-12-21 09:38 Gurga Gurga: Цитата (анатол @ Вчера, 23:08) В 946г Ольга расправлялась с древлянами Константин Багрянородный написал свой трактат "Об управлении Империей" после 950. В трактате архонтом Руси назван Игорь. Распутиниада 2013-12-21 10:04 Nslavnitski Nslavnitski: Цитата Расследование было поручено начальнику Петроградского охранного отделения полковнику Глобачёву. Забавно, но с этой стороны в мемуаристике тоже есть расхождения. А.Т. Васильев - директор Департамента полиции, тоже пишет, что расследование было поручено ему: Цитата Прежде чем продолжу описывать ход раскрытия этого дела (я был ответственным за его расследование) На деле, конечно, этим делом пришлось заниматься и тому. и другому. Мемуары Глобачева позже посмотрю, пока приведу некоторые фрагменты из записок Васильева. По поводу яда он писал: Цитата С полной безмятежностью Распутин одно за другим поглощал пирожные, отравленные цианистым калием; пил один за другим бокалы с отравленным вином - и все это без ожидаемых последствий. Убийцы, наблюдавшие за ним, тщетно ожидавшие результата (а нервы у них были на пределе), истолковали происходящее как доказательство того, что Распутин принимал противоядие. Ни тогда, ни впоследствии Пуришкевич и его сообщники не предположили простую вещь. Возможно, доктор Лазоверт, которому доверили положить отраву в пирожные и бокалы с вином, был охвачен угрызениями совести и заменил яд безвредным средством, содой или магнезией. С моей точки зрения, это простое и прозаическое объяснение чуда, якобы произошедшего на глазах у заговорщиков. Приводит донесения полицейских: Цитата Первое донесение, сразу же привлекшее внимание властей ко дворцу князя Юсупова, пришло от полицейского, дежурившего на улице. Я приведу его полностью, так, как оно было передано на судебное слушание жандармским подполковником Попелем. «В ночь с 16 на 17 декабря, - сообщал городовой Власюк, - я стоял на посту на углу Прачечного и Максимилиановского переулков. Около 4 часов ночи я услыхал 3-4 быстро последовавших друг за другом выстрела. Я оглянулся кругом - все было тихо. Мне послышалось, что выстрелы раздались со стороны правее немецкой кирхи, что по Мойке, поэтому я подошел к Почтамтскому мостику и подозвал постового городового Ефимова, стоявшего на посту по Морской улице около дома № 61. На мой вопрос, где стреляли, Ефимов ответил, что стреляли на «Вашей стороне». Тогда я подошел к дворнику дома № 92 по Мойке и спросил его, кто стрелял. Дворник, фамилии его не знаю, но лицо его мне известно, ответил, что никаких выстрелов не слыхал. В это время я увидел через забор, что по двору этого дома идут по направлению к калитке два человека в кителях и без фуражек. Когда они подошли, то я узнал в них князя Юсупова и его дворецкого Бужинского. Последнего я тоже спросил, кто стрелял; на это Бужинский заявил, что он никаких выстрелов не слыхал, но возможно, что кто-либо «из баловства мог выстрелить из пугача». Кажется, что и князь сказал, что он не слыхал выстрелов. После этого они ушли, а я, оставшись здесь и осмотрев двор через забор и улицу и не найдя ничего подозрительного, отправился на свой пост. О происшедшем я никому пока не заявлял, так как и ранее неоднократно мне приходилось слышать подобные звуки от лопавшихся автомобильных шин. Минут через 15-20, как я возвратился на пост, ко мне подошел упомянутый выше Бужинский и заявил, что меня требует к себе князь Юсупов. Я пошел за ним, и он привел меня через парадный подъезд дома № 94 в кабинет князя. (С. 430-431) Едва я переступил порог кабинета (находится влево от парадной, вход с Мойки), как ко мне подошел навстречу князь Юсупов и неизвестный мне человек, одетый в китель защитного цвета, с погонами действительного статского советника, с небольшой русой бородой и усами. Имел ли он на голове волосы или же был лысым, а также был ли он в очках или нет, - я не приметил. Этот неизвестный обратился ко мне с вопросами: «Ты человек православный?» - «Так точно», - ответил я. «Русский человек?» - «Так точно». - «Любишь Государя и родину?» - «Так точно». - «Ты меня знаешь?» - «Нет, не знаю», - ответил я. «А про Пуришкевича слышал что-либо?» - «Слышал». - «Вот я сам и есть. А про Распутина слышал и знаешь?» Я заявил, что его не знаю, но слышал о нем. Неизвестный тогда сказал: «Вот он (т.е. Распутин) погиб, и если ты любишь Царя и Родину, то должен об этом молчать и никому ничего не говорить». - «Слушаю». - «Теперь можешь идти». Я повернул и пошел на свой пост. В доме была полная тишина, и, кроме князя, неизвестного и Бужинского, я никого не видел. Пуришкевича я не знаю и раньше никогда не видел, но неизвестный несколько был похож на снимок Пуришкевича, который мне вчера (17 декабря) показывал начальник сыскной полиции в каком-то журнале. Я опять осмотрел улицу и двор, но по-прежнему все было тихо и никого не было видно. Минут через 20 ко мне на посту подошел обходной околоточный надзиратель Калядич, которому я рассказал о всем случившемся. После этого я с Калядичем отправились к парадной двери этого же дома № 94. У подъезда мы увидели мотор «наготове». Мы спросили шофера, кому подан мотор. «Князю», - ответил он. После этого Калядич пошел в обход, а мне приказал остаться здесь и посмотреть, кто будет уезжать. Припоминаю, что, когда мы подошли к дому № 92, то Калядич вошел в комнату старшего дворника и о чем-то его расспрашивал. Когда он вышел от дворника, то я с ним подошли к дому № 94. (С. 431) Откуда был подан мотор, точно не знаю. Из парадной двери (№ 94) вышел один князь Юсупов и поехал по направлению к Поцелуеву мосту. Когда князь уехал, то я сказал Бужинскому, выпустившему князя, чтобы он подождал Калядича, но он (Бужинский) заявил, что не спал целую ночь, а с Каляди-чем переговорит завтра (т.е. 17 декабря). Я, подождав еще несколько времени около этого дома и не видя никого больше, опять возвратился на свой пост. Это было уже в начале шестого часа- Минут через 10-15 возвратился с обхода Калядич, которому я рассказал о виденном, и мы опять подошли к дому № 94. Кроме дежурного дворника мы там не видели никого. Затем он отправился в участок, а я остался на месте. Около 6 часов утра он опять пришел ко мне и позвал меня к приставу полковнику Рогову, которому мы доложили о всем происшедшем. После этого я ушел домой. Мотор был собственный князя, на котором он всегда ездил. Этот мотор я хорошо знаю, он небольшой, коричневого цвета. Признаков какого-либо убийства я за все это время не заметил, а разговор в кабинете князя с неизвестным я объяснил себе как бы некоторым испытанием с их стороны знания моей службы, т.е. как я поступлю, получив такое заявление. Никакого волнения или смущения князя и неизвестного во время моего разговора в кабинете я не заметил, только неизвестный говорил «скороговоркой». Был ли он в нетрезвом состоянии, не могу сказать ничего определенного». (С. 432) Цитата Это показание, данное городовым Власюком под присягой, было в значительной степени подтверждено вторым городовым Ефимовым, который свидетельствовал: «В 2 часа 30 минут ночи я услыхал выстрел, а через 3-5 секунд последовало еще три выстрела, быстро, один за другим. Звуки выстрелов раздались с Мойки, приблизительно со стороны дома № 92. После первого выстрела раздался негромкий, как бы женский крик; шума не было слышно никакого. В течение 20-30 минут после выстрела не проезжал по Мойке никакой автомобиль или извозчик. Только спустя полчаса проехал по Мойке от Синего моста к Поцелуеву какой-то автомобиль, который нигде не останавливался. О выстрелах я дал знать по телефону в третий Казанский участок, а сам пошел в сторону выстрелов. На Почтамтском мостике я увидел постового городового Власюка, который тоже слыхал выстрелы и, думая, что они произведены на Морской улице, шел ко мне навстречу с целью узнать, где и кто стрелял. Я сказал, что выстрелы были произведены в районе дома № 92 по Мойке. После этого я возвратился на пост и больше ничего не видел и не слыхал. Помню, что со времени, как раздались выстрелы, до 5-6 часов утра я не видел других проезжавших по Мойке автомобилей, кроме вышеуказанного». (С. 432-433) Васильев А. Т. Охрана. Русская секретная полиция // «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений. Т. 2. М., 2004. Из этого получается, что никакого специального наблюдения (охраны) за Распутиным не велось, а его судьбу установили на показаниях обычных постовых. Археологические находки 2013-12-21 11:29 Суйко Суйко: В центре Калининграда археологи обнаружили средневековую деревню  Латунная копия золотого французского луидора. Если обитатели жилых домов рядом с т. н. «новым» эстакадным мостом Калининграда изволят быть недовольны целый день снующим под их окнами автотранспортом, то они могут попытаться найти утешение в том факте, что лет примерно 500-600 лет назад этот район также был весьма оживленным и шумным. Именно к такому выводу, склоняются сотрудники некоммерческого партнерства «Южархеология» и научно-производственной организации «Балтспецархеология», которые ведут сейчас раскопки на этом участке берега реки Преголя. СКЛАД ДЛЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ТОВАРОВ Все хорошо, что хорошо кончается. Или начинается - в нашем случае можно трактовать и так, и эдак. Можно, конечно, скорбеть, что археологам не дали здесь поработать непосредственно перед возведением эстакады. Но когда встал вопрос насчет обустройства рядом с мостом очистных сооружений с насосной станцией, Служба госохраны объектов культурного наследия настояла на организации археологических работ в рамках реконструкции набережной Трибуца. - Спасательных археологических работ, - уточняет начальник археологического раскопа Евгений Калашников. И, похоже, теперь можно констатировать, что упорство ведомства Ларисы Копцевой обеспечило настоящую научную сенсацию. Хотя ее непосредственные авторы, видимо, из суеверия, избегают столь громких определений. Однако сначала необходимо вспомнить об историческом прошлом кенигсбергского района Закхайм. Как писал авторитетный немецкий историк Фриц Гаузе, в указанном месте некогда располагалась слобода, основанная пруссами еще до появления рыцарей Тевтонского ордена. (Собственно, само слово «Закхайм» с прусского языка и переводится как «старая деревня».) Однако собственной письменности коренные жители региона не имели, поэтому первое документальное упоминание о ней относится к 1326 году. Уже во времена владычества колонизаторов слобода простиралась к востоку от стен города Лебенихт вдоль правого берега северного русла Прегеля. Фактически являясь городским предместьем, однако, как и все подобные населенные пункты, юридически подчиняясь непосредственно ордену. Изначально население Закхайма было стопроцентно прусским, но потом к нему добавились родственные по крови литовцы. «Понаехавшие» же немцы стали селиться тут лишь со второй половины XVI века. Как с большой долей уверенности можно предположить, тевтонцы довольно скоро повывели дремучие прусские леса. И быстро растущие города Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, позже слившиеся в единый Кенигсберг, испытывали острую потребность в строевой древесине. Самым удобным путем для ее импорта была река, по которой литовские поставщики гнали свои плоты. В Закхайме возникли обширные склады дерева - обычно в виде простых штабелей под открытым небом. Но, как теперь выясняется, привозили сюда нечто и намного более ценное.  Языческий оберег в виде секиры Перуна — самая ценная находка археологов. - В процессе раскопок мы наткнулись на остатки необычного строения, - рассказывает Калашников. - Довольно большое по понятиям того времени, оно, однако не имело не то что подвала - даже возведено было не на сваях, а просто на подкладке из валунов, поверх которых строители вывели кирпичные стены, укрепив их углы при помощи контрфорсов, чтобы все сооружение не сползло вниз к реке. Пол, кстати, тоже был настлан из кирпича. Вряд ли в таком добротном пакгаузе хранилось дерево, пусть даже самое отборное. Наверняка помещение предназначалось для какого-то особенного товара. СРЕДНЕВЕКОВАЯ РЕДКОСТЬ Старейшим строением Закхайма номинально считалась кирха святой Елизаветы, первое упоминание о которой относится к 1420 году. Местным литовцам она служила в качестве приходского храма, собственно, поэтому остальные кенигсбержцы и прозвали ее Литовской. Просуществовала она до 1807 года. После чего была закрыта из-за недостатка прихожан. В освободившемся здании обустроили… тюрьму. Традиционное кладбище при кирхе сначала превратили в зеленую зону, а потом разбили на этом месте площадь Арестхаусплатц. Могилы при этом были срыты, однако прах не эксгумировался.  Три спаянных ржавчиной пластины — часть так называемого ламеллярного доспеха. В 1933-м площадь получила более благозвучное название в честь все той же святой Елизаветы. Но еще в XIV веке рядом с Литовской кирхой расположился второй из открытых в Кенигсберге госпиталей, названный, опять-таки, в честь святой Елизаветы. Она считалась покровительницей бедных, поэтому лазарет предназначался в первую очередь для престарелых горожан. С 1420 по 1525 годы госпиталь патронировался одноименным женским монастырем (он находился на современной улице Кирпичной). Здесь же останавливались сплавщики леса из Литвы, «зависавшие» в Кенигсберге часто по нескольку недель кряду. Как сложилась судьба госпиталя в послеорденское время, не знал даже коренной кенигсбержец Гаузе. Зато, благодаря последним археологическим изысканиям, может проясниться кое-что из далекого прошлого «литовского гетто». - Толщина культурного слоя в этом месте доходит до четырех метров, - говорит Лиана Цыбрий, осуществляющая общее руководство работами. - Специалистам есть, над чем поработать. Конечно, прежде всего добычей археологов стали многочисленные фрагменты керамики - причем как периода позднего средневековья, так и орденского времени. Характерными для «складского» района артефактами можно считать свинцовые пломбы, которыми опечатывался товар. Из той же категории - монеты различных государств и эпох, и, может быть, еще более любопытные в плане исследований заменители денег - токены. Например, латунная копия французского золотого луидора с четким изображением короля Людовика XV.  На месте бывшего Закхайма удалось откопать большое количество керамики орденского периода. Но настоящим открытием стали фрагменты средневекового воинского снаряжения. Сначала вполне обычный на первый взгляд кусок металла привлек внимание археолога Никиты Зубарева, который разглядел в окислившемся «агломерате» три спаянные ржавчиной пластины. Именно из таких деталей состоял пластинчатый или, как его еще называют, ламеллярный доспех, характерный для средневековья. ЯЗЫЧНИК В ХРИСТИАНСКОМ ГОРОДЕ Насколько известно, в Калининграде нечто подобное ранее удавалось находить лишь однажды - при раскопках района Ластадие. - Да и вообще части пластинчатого доспеха в раскопах встречаются сравнительно нечасто, - подтверждает Никита Зубарев. - В нашей стране известно, максимум, о 400-500 подобных находках. Но в земле бывшего Закхайма археологам удалось отыскать еще большую редкость - мужские обереги в виде двух секир Перуна. Издревле такие украшения, носившиеся на груди, считались принадлежностью профессиональных воинов, заслуживших особый почет и уважение среди сородичей, благодаря своему мужеству и отваге.  Еще одна археологическая редкость — древняя шахматная фигурка. - Найти такие «топорики» - это настоящая удача, - объясняет Евгений Калашников. - Более распространены и известны скандинавские подвески «молот Тора», но и они попадаются очень нечасто. К тому же, это украшение свидетельствует о том, что откуда-то с Востока, вполне вероятно даже из Руси, в Кенигсберг прибыл воин-язычник. Причем не из простых, а относящийся к числу княжеских дружинников. И вполне возможно, здесь он погиб, потому что с «секирами Перуна» по доброй воле их обладатель вряд ли расстался бы. С учетом того, что языческие амулеты находились в слое, относящемся к XIV-XV векам, когда христианство уже прочно утвердилось в Пруссии, простор для предположений о судьбе их владельца открывается воистину безбрежный. Конечно, русич мог опочить вследствие какой-нибудь болезни или неумеренной выпивки - вполне обычное дело для того времени. Но, скажем, версия о фатальном конфликте языческого воина и тевтонского рыцаря выглядит, согласитесь, куда как романтичнее! Хотя, пожалуй, это уже стоит оставить беллетристам… Тем более что к защитным «пластинам» и перуновским секирам вскоре добавилась еще одна характерная принадлежность - серебряная накладка на рыцарский пояс: четыре желудя в квадратном обрамлении, которые образуют косой (или «Андреевский») крест. Ко всему этому стоит добавить украшение для конской сбруи, поясную пряжку и цепочку непонятного назначения. И констатировать, что если Закхайм, может, и считался когда-то городской окраиной, но отнюдь не был унылым захолустьем. Можно только предполагать, какие еще открытия могли бы ожидать археологов на месте самой кирхи святой Елизаветы и располагавшегося вокруг нее погоста. Но, увы - эта территория сегодня надежно скрыта под асфальтом и бетоном. Воин- язычник из Руси в 14-15 вв???? У кого-то очень богатая фантазия и отсутствие знания истории. В Пруссии христианство прочно утвердилось, а что - на Руси не утвердилось? Житель ВКЛ 14 в. на эту роль возможно подошел бы (?) Евкратид I и Греко-Бактрийское царство 2013-12-21 12:47 Saygo Saygo: А. А. Попов. «Великий царь» Евкратид I История Греко-бактрийского царства относится к третьему периоду бактрийского эллинизма (вторая половина III - середина II века до н. э.), которому предшествовали македонский и селевкидский периоды. Проблемы истории Греко-бактрийского царства интересуют ученых, начиная с XVII века. Еще Г. З. Байер посвятил истории греко-бактрийских царей значительное научное исследование{1}, которое стало основой последующей историографической традиции в России и за рубежом.  Этап греко-бактрийской истории, связанный с именем «великого царя» Евкратида I, к сожалению, обойден стороной в новейшей историографии. В последних работах Ф. Хольта{2} и Дж. Лернера{3} рассматриваются сюжеты греко-бактрийской истории до прихода к власти в этом государстве Евкратида I. На сегодняшний день наиболее подробно царствование Евкратида I освящено в работах В. В. Тарна{4} и А. К. Нараина{5}, которые стали уже классиками историографии Греко-бактрийского царства. В. В. Тарн и А. К. Нараин опираются в описании истории Греко-Бактрии, как и Г. З. Байер, преимущественно на нумизматические и литературные источники, при этом, в их поле зрения не попали новейшие данные археологических находок в Ай Ханум и Тахти Сангине. Однако, так как по царствованию «великого царя» Евкратида I основными источниками до сих пор являются сведения Страбона и Юстина и данные нумизматики, сочинения В. В. Тарна и А. К. Нараина нельзя признать безнадежно устаревшими. К этому следует добавить, что именно со времени этих двух ученых сложились две тенденции в оценке царствования Евкратида I. Одна из них, выраженная В. В. Тарном, - сдержанно положительная в оценке личности Евкратида I, другая, критикующая взгляды В. В. Тарна и поддержанная А. К. Нараином, - сдержанно отрицательная.  Правление Евкратида I (около 171-145 гг. до н.э.){6} было временем расцвета и началом упадка Греко-бактрийского государства. Предшествующие Евкратиду греко-бактрийские цари Евтидем I и Деметрий I смогли не только отстоять независимость своего царства, но и расширить свои владения. Евтидем I смог выстоять в противостоянии с могущественным селевкидским царем Антиохом III Великим, а его сын Деметрий I завоевал значительные территории в Индии. Время прихода к власти Евкратида - период бурного территориального роста владений греко-бактрийских правителей. По вопросу о происхождении Евкратида существуют различные мнения. Возможно, он был полководцем, у которого стремлению к захвату власти способствовала сложившаяся в Бактрии обстановка. Другие высказывают гипотезу о возможной связи Евкратида с династией Селевкидов и, согласно этому, готовы видеть в восстании Евкратида чуть ли не попытку Селевкидов подорвать греко-бактрийское могущество{7}. По этой версии, выдвинутой В. Тарном, Евкратид был наместником одной из восточных сатрапий Селевкидского государства. Северным побережьем Персидского залива он совершил трудный поход в Систан, нанес там поражение Деметрию I и после этого подчинил своей власти Бактрию. В качестве доказательства сторонники этой гипотезы обращаются к монетам Евкратида I, где на лицевой стороне помещен портрет самого Евкратида, а на оборотной - портрет пожилого мужчины и женщины с диадемой на голове (признак царского происхождения). На лицевой стороне легенда: «βᾰσῐλεύς Ευκρατίδης», на оборотной: «Ηλιοκλευoς και Λαοδικης». У ряда ученых не вызывает сомнения, что на оборотной стороне этих монет изображены родители Евкратида, причем мать его, по-видимому, в отличие от отца, принадлежала к числу членов какой-либо правящей (или свергнутой) династии{8}. Другие исследователи полагали, что на реверсе этих монет изображены сын Евкратида Гелиокл и невестка Лаодика и что эти монеты выпущены в честь бракосочетания наследника престола{9}. Единственно только на одном основании, что имя Лаодика носили некоторые представительницы Селевкидской династии, В. В. Тарн утверждает, что на монетах изображена селевкидская царевна. Однако это сравнительно широко распространенное греческое имя в равной мере могло принадлежать и женщине из любой другой эллинистической или эллинизированной династии. Остальные аргументы в пользу этой гипотезы еще менее состоятельны{10}.  Скорее всего, появление на греко-бактрийском престоле Евкратида является результатом внутриполитической борьбы в Греко-Бактрии. Еще С. П. Толстов, один из первых рецензентов В. В. Тарна, отмечал: «Гораздо естественнее по-прежнему видеть в Евкратиде руководителя восстания греческих поселенцев в Бактрии»{11}. Нет никаких данных и о том, что Евкратид проник в Бактрию с юга. Напротив, есть все основания считать, что областью его первоначального правления была именно Бактрия. Юстин прямо указывает, что Евкратид пришел к власти в Бактрии (Just., XLI, 6, 1), а среди многочисленных монет с именем этого правителя наиболее ранними являются образцы именно бактрийского чекана. Возможно, по этой причине в Бактрии был основан город Евкратидия (Strab., XI, 11, 3; Ptol., VI, 11). Одним из этапов карьеры Евкратида, по мнению Д. В. Бирюкова, была должность правителя города, и отражением этого может служить упоминание Страбоном Евкратидии, названной по имени своего правителя (XI, 11, 2){12}. Однако эта гипотеза Д. В. Бирюкова не имеет других аргументов кроме этого, поэтому ее не следует принимать как хорошо обоснованную. Ведь не исключено, что Евкратидия был заново отстроенный город или переименованный при Евкратиде, несвязанный с карьерой Евкратида до пришествия его на престол.  Как говорят наши источники: Евкратид поднял восстание в Бактрии и захватил там власть (Just., XLI, 6, 1). Видимо, это произошло в отсутствие Деметрия I, который был в Индии, а его наместник из числа Евтидемидов был устранен от власти. Евкратид был, по-видимому, очень энергичным человеком и благодаря своему личному мужеству, проявленному в борьбе с Деметрием I, сумел подчинить даже его индийские владения (Strab., XV, 1, 3; Just., XLI, 6, 1). По сведениям указанных ис-точников, восходящих к Аполлодору из Артемиты, Евкратид с 300 воинами победил войско царя Деметрия числом 60 000. В итоге Евкратид меняет свою титулатуру. Вместо «царя» на его монетах появляется титул «великий царь». Видимо, это связано с покорением Евкратидом индийских владений Евтидемидов, так как в первое время своего царствования, исходя из данных нумизматики, он не носил такого громкого титула. По словам Страбона, под властью Евкратида была тысяча городов (XV, 1, 3). Некоторые ученые выдвигают предположение о том, что Евкратид уподобил себя Ахеменидам, носившим подобный титул. Тем самым он поставил себя на одну ступень с Селевкидами и, возможно, даже узаконил претензии бактрийских царей на восточные владения Ахеменидов, включавших и долину Инда. Мысль о «незаконности» захвата власти в Греко-Бактрии, вероятно, беспокоила Евкратида. Именно этим следует объяснять, по мнению некоторых ученых, чекан серии тетрадрахм и драхм с изображением родителей Евкратида. «Великий царь» стремился обратить внимание своих подданных на то обстоятельство, что его мать принадлежала к царскому роду{13}. Пока греко-бактрийский престол переходил из рук в руки, рядом с Греко-Бактрией все более крепло государство, ставшее впоследствии ее грозным противником. В правление Митридата I (171-138 гг. до н.э.) Парфия, усилившаяся за счет присоединения к ней ряда селевкидских провинций в Западном Иране и Месопотамии, становится крупной державой. Парфяно-бактрийские противоречия, впервые возникшие еще на заре независимости обоих государств, вспыхнули с новой силой. Видимо, слишком заманчивой добычей казалось Митридату Греко-бактрийское царство, ослабляемое постоянными дворцовыми переворотами. Политика Евкратида, ориентированная на борьбу с Евтидемидами, оказалась пагубной для него самого. При нем Греко-Бактрия теряет часть западных владений, захваченных парфянами (Strab., XI, 11, 2; Just., XLI, 6, 1). Скорее всего, парфяно-бактрийская война происходила еще до индийского похода Евкратида, который едва ли решился бы его предпринять, не обеспечить безопасного тыла. Юстин прямо сообщает, что в последние годы своей жизни Евкратид совершил поход в Индию (XLI, 6, 1). Конец жизни «великого царя» плачевный. Он был убит своим сыном и соправителем, который надругался над его трупом (Just., XLI, 6, 1). Возможно, по мнению многих греков, это стало для Евкратида справедливым наказанием за войну между эллинами, которую тот начал. Евкратид стал последним выдающимся царем на греко-бактрийском престоле, при котором страна сохраняла свою независимость и экономическую мощь. Со смертью Евкратида прекращается период расцвета Греко- бактрийского государства и начинается его политический упадок. Безусловно, на наш взгляд личность этого греко-бактрийского монарха является весьма выдающейся на арене эллинистической Бактрии. Однако справедливо мнение О. Бопераччи, который называет Евкратида I «узурпатором»{14}. Действительно, как можно давать положительные оценки правителю, который, захватив власть в государстве, не только не смог стабилизировать ситуацию в стране с помощью реформ и преобразований, но и потерял ряд областей, захваченных соседней державой. Как раз из-за переворотов, начавшихся с Евкратида, Греко-бактрийское государство ослабло настолько, что не смогло дать достойного отпора сначала парфянам, а затем кушанам, покорителям эллинистической Бактрии. Примечания 1. Bayer Th. S. Historia regni Graecorum Bactriani. Petropoli, 1738. 2. Holt F. L. Alexander the Great and Bactria. 1) The Formation of a Greek Frontier in Central Asia. 1st imp., Leiden, 1988; 2nd imp., Leiden, 1989; 2) Thundering Zeus: the making of Hellenistic Bactria. Berkley - Los Angeles - London, 1999. 3. Lerner J. D. The impact of Seleucid decline on the Eastern Iranian Plateau: the foundations of Arsacid Parthia and Graeco-Bactria. Stuttgart, 1999. 4. Tarn W. W. The Greeks in Bactria and India. 1st ed., Cambridge, 1938; 2nd ed., Cambridge, 1951; 3rd ed., Chicago, 1985. 5. Narain A. K. The Indo-Greeks. 1st ed., Oxford, 1957; 2nd ed.,Oxford, 1962. 6. Bopearachchi O., Aman ur Rahman. Pre-Kushana Coins in Pakistan. Karachi, 1995. Р. 30. 7. Tarn W. W. The Greeks in Bactria and India. 2nd ed. Р 196. 8. Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. I. М., 1964. С. 112. 9. Sallet A. Die Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien. Berlin, 1879. S. 23; Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948. С. 239. 10. Narain A. K. The Indo-Greeks. 1st ed. Р 54-56. 11. Толстов С. П. Подъем и крушение империи эллинистического Дальнего Востока // ВДИ. 1940. №3-4. С. 202, 203. 12. Бирюков Д. В. От «Артава» до «Африга»... С. 42. 13. Narain A. K. The Indo-Greeks. 1st ed. Р. 57; Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. II. М., 1965. С. 114. 14. Bopearachchi O., Aman ur Rahman. Pre-Kushana Coins in Pakistan. Karachi, 1995. Р 30. Крещение княгини Ольги 2013-12-21 13:50 анатол анатол: Цитата (Gurga @ Дек 21 2013, 09:38) Константин Багрянородный написал свой трактат "Об управлении Империей" после 950. В трактате архонтом Руси назван Игорь. Вывод. Константин Багрянородный не достоверный источник по истории Руси. Евкратид I и Греко-Бактрийское царство 2013-12-21 14:05 Saygo Saygo: А. А. Попов. История распада Греко-Бактрийской державы Одна из основных задач, которая стоит перед исследователями истории Греко-Бактрии и индогреческих царств, - это выявление последовательности правления царей из династий Евтидемидов и Евкратидидов после правления Деметрия I и Евкратида I. У нас имеется значительный нумизматический материал при практически полном отсутствии литературных памятников. Поэтому восстановить корректно события политической истории после смерти Евкратида Великого, кроме последовательности правления эллинских царей в Бактрии и Индии, вообще представляется невыполнимой задачей. Как в случае с некогда бытовавшим в историографии «бактрийским миражем» на горизонте постепенно появляется еще более отдаленный и расплывчатый «индо-греческий» мираж. Однако попытки реконструировать указанные события уже предпринимались в научной литературе. Достаточно вспомнить труд В. Тарна{1}, исследование А.К. Нарайна{2} или работу О. Бопеараччи{3}. Безусловно, используя исследования предшественников, а также сохранившиеся источники мы также предприняли попытку подобной реконструкции.  Весьма интересно сравнение монетного чекана Деметрия I{4} с монетами Евтидема II{5}. Кроме нумизматики других источников о Евтидеме II на сегодняшний день мы не знаем. Имя этого царя говорит о его практически стопроцентной принадлежности к динадинастии Евтидемидов. Стоит вопрос о том, кем он является Деметрию I: братом, сыном, внуком? Судя по эллинской традиции называть своих сыновей в честь своих отцов, Евтидем II, по-видимому, является внуком Евтидема I и сыном Деметрия I. При этом остальные два варианта также нельзя отбрасывать окончательно. Другие данные также говорят о тесной связи Деметрия I и Евтидема II. На монетах обоих царей мы находим индентичные изображения бога-покровителя Геракла. Монетная стопа, а также монограммы на монетных эмиссиях весьма схожи. Бросается в глаза тот факт, что у обоих царей мы не встречаем двуязычных монет, на которых кроме греческих должны были бы встречаться индийские надписи.  Монета Евтидема 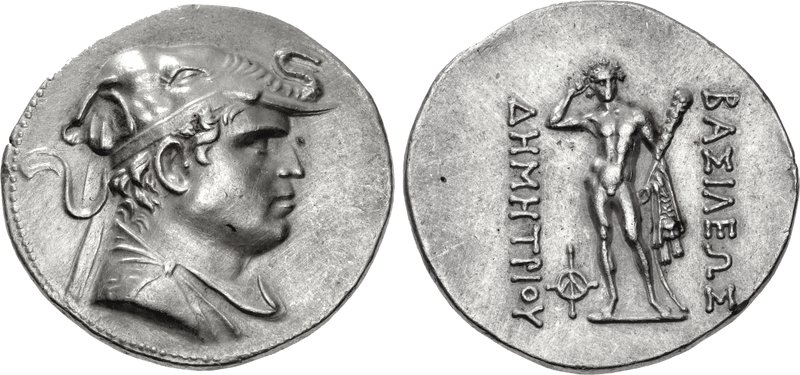 Монета Деметрия I Казалось бы, существенной разницей должен был бы быть тот факт, что Евтидем II взял себе в боги-покровители не Артемиду, которая была таковой у Деметрия I, а Аполлона. Эти данные прослеживаются по эмиссиям медных монет Деметрия I{6} и Евтидема II{7}. Однако учитывая, то что Аполлон и Артемида - близнецы: брат и сестра, можно высказать предположение, что и здесь нет никакого противоречия. Монетные изображения рисуют нам образ Евтидема II, юного и, возможно, неопытного правителя. Евтидем II не принял во время своего царствования и впоследствии не удостоился никакого имени схожего с теми, которыми обладали его предки и преемники, - «Бог» («Теос»), «Непобедимый» («Аникет»), «Спаситель» («Сотер») и другие. Вероятно, его правление не было долгим. Возможно, около двух лет, может быть чуть более. Так как на изготовление монетного штемпеля высокого качества требовалось хотя бы это время. Качество же монет этого царя весьма высокое. На недолгое правление указывают немногочисленные эмиссии и находки монет Евтидема II. Значительную информацию о последовательности правления некоторых царей дают коммеморативные монеты греко-бактрийских и индо-греческих правителей. Так, самая обширная подобная эмиссия, дошедшая до нас принадлежит эпохи царя Агафокла Справедливого (Дикайоса). Не раз отмечалось, что она была направлена на укрепление идеи о легитимности власти этого царя и утверждении царского культа. Существуют эмиссии тетрадрахм, посвященные Александру Великому{8}, Антиоху II Победителю (Никатору){9}, Диодоту Богу (Теосу){10} и Диодоту Спасителю (Сотеру){11}, по-видимому, одному и тому же царю Диодоту I, Евтидему I Богу{12}, Деметрию I Непобедимому (Аникету){13}, Панталеону Спасителю (Сотеру){14}. На каждой такой монете содержится имя Агафокла, а также содержатся не только портреты и имена каждого из правителей, но и боги-покровители. Интересно, что на монетах, посвященных Александру, изображается Зевс, восседающий на троне. Зевс, мечущий молнии и идущий со щитом в левой руке, изображен на монетах Антиоха и Диодота. На монетах Евтидема и Деметрия мы встречаем уже Геракла. Причем, если на монетах Евтидема Геракл сидит с палицей на коленях в позе «отдыхающего», то на монетах Деметрия Геракл стоит и держит палицу вверх в левой руке, также как бы отдыхая, но уже в положении стоя. Примечательно, что на монетах Панталеона мы встречаем изображение сидящего на троне Зевса, аналогичному изображению с монет, посвященных Александру{15}. На обыкновенном же чекане Агафокла, на его драхмах и тетрадрахмах изображается стоящий Зевс, но уже не мечущий молнии, а как-будто вставший только что с трона{16}. Безусловно, этим Агафокл хотел продемонстрировать подданным связь своей власти с Александром, потомком Зевса, покорителем и наследником державы Ахеменидов. Причем, приверженность первых Евтидемидов культу Геракла не означает отступления от этой генеральной идеи. Ведь Александр Великий и его отец Филипп восходили к роду, происходившему от Геракла. Сам Александр нередко сравнивался именно с этим героем и сыном Зевса. Логично заключить, что следующие после Деметрия I Непобедимого Евтидемиды использовали образ Зевса и сына его Геракла для укрепления своей власти среди центрально-азиатских и индийских подданных, особенно, эллинского происхождения. В значительном труде О. Бопеараччи, посвященном греко-бактрийской и индо-греческой нумизматике, Агафокл представлен как царь, правивший после Панталеона{17}. При этом как же тогда воспринимать, вышеупомянутую эмиссию коммеморативных монет Агафокла в честь Панталеона? Таким образом, в противовес выводу этого авторитетного ученого представляется логичным мнение о том, что Агафокл правил после Панталеона, был его современником и преемником его власти. Монеты Панталеона не содержат громких эпитетов этого царя{18}. Однако на монетах Агафокла, как было сказано выше, он назван «Спасителем» («Сотером»), что говорит о его божественности. Подобное обожествление могло произойти после смерти Панталеона. как было свойственно многим монаршим династиям. Это деяние могло также стать актом идеологической борьбы с другими конкурентами на престол. Таким образом, это может быть свидетельством того, что Панталеон правил до Агафокла, а не синхронно с ним или после него. По крайней мере, смерть Панталеона Спасителя наступила ранее окончания правления Агафокла Справедливого. Коммеморативные монеты Антимаха I Бога (Теоса), посвященные Диодоту I Спасителю (Сотеру){19} и Евтидему I Богу (Теосу){20}, также весьма интересны, но, к сожалению, не столь многочисленны как коммеморативные эмиссии Агафокла Справедливого. Этот царь также демонстрирует приверженность династии Евтидемидов. Ведь мы не знаем ни одной эмиссии потомков Евкратида, посвященной Евтидему I. Это объяснимо тем, что между Евкратидом I и сыном Евтидема I Деметрием I была война, в которой Евкратид вышел победителем. Любопытен ответ на вопрос: каким по счету Евтидемидом был Антимах I Бог? По мнению О. Бопеараччи, он правил после уже упомянутых Панталеона и Агафокла{21}. Судя по отсутствию коммеморативных монет в честь Деметрия I, Панталеона Спасителя, Агафокла Справедливого, действительно, можно предположить, что Антимах Бог был современником или преемником власти Деметрия I. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Антимах Бог правил до Панталеона и Агафокла. Однако отсутствие на сегодняшний день указанных эмиссий не означает полного отсутствия возможности того, что они когда-то были. К тому же вряд ли такой значительный правитель из рода Евтидемидов не присутствовал бы на коммеморативных монетах Агафокла Справедливого, если Антимах Бог правил бы до него. Таким образом, логично заключить, что мнение О. Бопеараччи здесь вполне имеет право на существование. Коммеморативная эмиссия монет, имеющая на одной стороне легенду «Царь Великий Евкратид» и на другой стороне легенду «Гелиокла и Лаодики», также крайне интересна для рассмотрения{22}. Дж. Макдональд предположил, что Евкратид I был по происхождению Селевкид, так как его матерью была принцесса крови, принадлежащая этой династии и изображенная на этих монетах, Лаодика{23}. Впоследствии к этому мнению примкнул В. Тарн, который предполагал, что здесь мы сталкиваемся с эмиссией Евкратида I, пытавшегося возвести свое происхождение к Селевкидам{24}. Уже С.П. Толстов подверг данное мнение критике{25}. Его мнение кажется верным, к тому же если внимательно прочитать легенды на монетах, там обнаруживается их принадлежность к Гелиоклу и Лаодике. Ведь именно их имена находятся здесь в родительном падеже, а имя Евкратида в именительном, то есть монета чеканена в честь Евкратида, а не Евкратидом в честь своих якобы родственников, например, гипотетических отца и матери-принцессы. По мнению некоторых ученых, Лаодика могла принадлежать в целом какой-то правящей или свергнутой царской династии{26}. И, наконец, столь распространенное среди греков и македонян имя могло принадлежать любой знатной даме, которая могла быть супругой Евкратида Великого. В пользу гипотезы о том, что Лаодика была матерью Гелиокла, а не сестрой или супругой, говорят портреты на вышеуказанных монетах. Отчетливо видно, что на голове Гелиокла отсутствует, а на голове Лаодики присутствует царская диадема. Такая ситуация не могла возникнуть если бы они оба были дети от одного царя, в данном случае, Евкратида Великого. Также такое положение вещей было бы странным если бы супруга Гелиокла имела бы царское достоинство, а сам он такового бы не имел. Остается один подкрепленный логикой вариант: Лаодика является царицей, супругой другого царя, а не Гелиокла, а Гелиокл не обличенный царской властью, так как изображается без диадемы, тем не менее, изображается как наследник Евкратида I и основной претендент на царскую власть. Подобная ситуация могла возникнуть в том случае, когда Лаодика была регентом при Гелиокле.  Монета Гелиокла Что касается мнения о том, что здесь изображенный Гелиокл был уже пожилым мужчиной, эта точка зрения весьма оспорима. Достаточно крупные не совсем юношеские черты лица с мимическими морщинами скорее указывают на профессионализм художника, изобразившего Гелиокла. Недаром греко-бактрийская и индо-греческая нумизматика может по праву считаться вершиной медальерного искусства античности. Можно вспомнить также мастерство художников эпохи римского императора Веспасиана. Они изображали этого римского правителя очень реалистично, подчеркивая даже изъяны, вплоть до морщин, на его лице. В том числе, это можно увидеть на портретах, помещенных на монеты. Ведь морщинистость, до «натужности» его лица, отмечена даже у Светония в биографии Веспасиана (20, 1). Таким образом, хотя нам не известны литературные описания вмешности Гелиокла Справедливого, тем не менее, он предстает перед нами человеком с волевыми чертами лица, готовым к борьбе с противником и готовым отстаивать свои представления о справедливости, какими бы ни были. Необязательным является положение, при котором регентом могла стать мать лишь при малолетнем сыне. Он мог быть уже вполне взрослым человеком и выбрать на время свою мать, бывшую царицу, себе в качестве соправителя. К тому же понятия «молодой человек» и «молодость» были несколько иными в античности по отношению к современности, то есть они были несколько шире по временным рамкам. Следует вспомнить литературный пассаж, посвященный гибели Екратида I. Его убил собственный сын и соправитель и надругался над его трупом, бросив его без погребения и проехав по его крови на колеснице (Just. XLI, 6, 1). Здесь встает вопрос об имени царя-отцеубийцы, которое не упоминается в сведениях Помпея Трога (Юстина). Наши нумизматические свидетельства также не могут дать прямого ответа. Однако на обширном нумизматическом материале не только можно, но и следует выстроить ряд предположений и гипотез. На сегодняшний день мы имеем ряд эмиссий, которые могут принадлежать, например, сыновьм или внукам, то есть ближайшим потомкам или преемникам Евкратида I. Ученые здесь справедливо выделяют чекан Евкратида II Спасителя (Сотера), Гелиокла I Справедливого (Дикайоса){27}, Платона Славного (Епифана). Кто из них мог быть убийцей Евкратида и его соправителем? Наличие уже установленного чекана Гелиокла и Лаодики с портретом Евкратида выдвигает нам два ряда предположений. Первый заключается в том, что Гелиокл Справедливый убил своего отца, так как тот развязал братоубийственную войну между центрально-азиатскими эллинами, подданными Деметрия I и некогда его отца Евтидема I. В этом контексте чекан Гелиокла и Лаодики следует воспринимать как отражение сведений Помпея Трога (Юстина) о том, что Евкратид сделал соправителем своего сына. Таким образом, здесь Гелиокл изображен как соправитель, а Лаодика, скорее всего, его мать и супруга Евкратида, которая как и Олимпиада, мать Александра Великого, могла способствовать восхождению своего сына на престол. По данной версии мы здесь видим портреты заговорщиков, из которых основное действующее лицо, вероятнее всего, - Лаодика. Впоследствии, став царем, Гелиоклом I назвал себя Справедливым, подчеркивая законность захвата власти. Роль Лаодики в приходе к власти Гелиокла I очевидна. Однако не понятно: кем она была узурпатором или восстановителем законной власти? Можно даже реанимировать теорию о ее царском происхождении. Вслед за Дж. Макдональдом и В. Тарном предположить, что она относилась к Селевкидам. Тем самым, Гелиокл I все более становится легитимным правителем в глазах многих. Ведь он сверг узурпатора Евкратида, удалившего от власти законную династию, основанную Евтидемом I, который получил царскую диадему из рук Антиоха III Великого, а с ней и власть над Бактрией. К тому же он, потомок Селевка I, получил в упраление те территории, которые принадлежали его предкам, пусть и по материнской линии. Второй ряд предположений и гипотез может заключаться в том, что Гелиокл был сыном Евкратида, победившим своего брата, некогда соправителя Евкратида, убийцу своего отца. Гелиокл здесь выступает как восстановитель власти Евкратида Великого, которого поддерживает его мать и вдова царя Евкратида Лаодика. Такой точки зрения придерживается А.К. Нарайн{28}. В качестве же отцеубийцы здесь выступает Платон Славный (Епифан). Таким образом, слава его заключалась в захвате власти с помощью свержения талантливого и храброго полководца, которым нам представляется Евкратид Великий. В то время, когда эти события произошли, Платон явно не был юношей. Об этом свидетельствуют его портреты на серебрянных тетрадрахмах, где он изображен мужчиной с крупными, даже несколько полноватыми чертами лица. Сюжет, связанный с расправой над Евкратидом Великим, может служить аргументом в пользу мнения о том, что его убийца был Платон. Известно, что отцеубийца проехал по крови Евкратида I на колеснице. Колесница же у эллинов и многих других народов была не просто средством передвижения, но и символом, в том числе, власти. На монетах Платона мы встречаем его бога-покровителя Гелиоса. Сегодня известны эмиссии, где это божество просто стоит, а также где Гелиос скачет на колеснице. Это художественное воплощение бога Солнца также символично. Известны примеры из истории, когда правители выбирали себе богов, героев, великих людей в качестве примера для подражания помимо того, что считали некоторых богов своими покровителя-ми. Вряд ли можно найти такого царя, чей бог-покровитель передвигается на колеснице, у которого, в свою очередь, не будет подобного транспорта. Таким образом, перед нами предстает по-шекспировски драматическая сцена. Платон после расправы над своим отцом приказывает бросить его тело без погребения, на поругание. По тому месту, где произошло убийство и где еще не остыла кровь убиенного, он скачет на своей колеснице. Платон находится, без сомнения, в экстатическом состоянии. По-видимому, в качестве оправдания своих злодеяний он представляет религиозную одержимость, как будто им повелевает бог Гелиос, а не алчность и властолюбие. Однако такая картина, скорее всего, ужаснула многих его сподвижников и подданных. Новый царь из-за таких действий сам создал оппозицию себе. Его власть была обречена на провал, и вряд ли она была долгой. Так, Л.А. Боровкова предполагает даже репрессии по отношению к сподвижникам Евкратида Великого со стороны Платона{29}. Кто мог стать во главе такой оппозиционной силы? По мнению Л.А. Боровковой участниками заговора против Платона были «соратники и помощники» Евкратида I{30}. Без сомнения, в том числе ущемленная в своих правах греко-бактрийская царица, вдова Евкратида I. Вероятнее всего, таковой царицей являлась Лаодика, изображенная на вышеупомянутых монетах, где она предстает перед нами в диадеме. Возможно, она могла быть, вообще, мачехой по отношению к убийце своего мужа, новому царю Платону. Неизвестно, какие были у них взаимоотношения с ним еще при жизни ее супруга из-за, того, в частности, что убийца Евкратида Великого был его соправителем. Для того чтобы показать приверженность старым порядкам, бытовавшим при Евкратиде I, Лаодика поддерживает притязания на престол другого сына Евкратида Великого Гелиокла, который был ее сыном. Как прокламацию своих действий Гелиокл и Лаодика чеканят несколько эмиссий монет с портретом Евкратида. Эти акции еще раз должны были показать жителям государства и, прежде всего, эллинам, кто их истинный господин, какое ужасное преступление было совершено. То, что Гелиокл и Лаодика являются продолжателями дела Евкратида, кажется более вероятным, нежели то, что они были его противниками и убийцами. Действительно, нелепо предполагать, что низверженный правитель да еще носивший эпитет «Великий» появится в своем героическом облике победоносного полководца на монетах своих душегубов. В этой связи первую гипотезу о принадлежности Гелиокла к свержению Евкратида придется отвергнуть. При этом не стоит окончательно опровергать мысль о связях Лаодики с какой-либо монаршей династией, например, с Селевкидами. Ибо в том случае, если Лаодика боролась с Платоном за власть, ее царское происхождение, к тому же, от преемников Ахеменидов и Александра Великого в Центральной Азии и Индии было значительным фактором, обеспечившим успех противникам убийцы Евкратида I. Наконец, вспомним, что Евкратид, принявший имя «Великий», «правивший тысячью городов», уподобил себя персидским царям и Александру. При таких обстоятельствах вряд ли бы он был женат на даме ординарного происхождения, скорее всего, Евкратид попытался бы иметь в качестве супруги представительницу царского рода. Таким образом, свержение Евкратида Великого или, наоборот, восстановление законной власти можно назвать очередной «войной Лаодики» по аналогии с III Сирийской войной («войной Лаодики»), между Птолемеями и Селевкидами. Ведь в обеих войнах мать по имени Лаодика отстаивала претензии своего сына на престол. В качестве аргумента в пользу мнения о невозможности преемственности власти Платона и Гелиокла следует рассмотреть монограммы на монетах этих монархов. На сегодняшний день не существует ни одной монетной эмиссии Платона и монетной эмиссии Гелиокла с Лаодикой, где были бы схожие монограммы. Этот фактор может указывать на то, что эти монеты чеканились в разных местах. Таким образом, одни подданные Евкратида I приняли власть Платона, а другие оказались в оппозиции. К тому же на монетах царя Платона всего лишь один тип монограмм. Эмиссии этих монет и их находки не многочисленны. Все это может свидетельствовать о недолгом сроке правления Платона, но при этом достаточном для изготовления нескольких монетных штемпелей высокого качества, то есть около двух лет{31}. Такое положение вещей резко контрастирует с обилием эмиссий и находок монет Гелиокла I. Остается вопрос: какое место среди преемников Евкратида Великого должен занимать Евкратид II? Мог ли он быть убийцей Евкратида I и его соправителем? Положительный ответ здесь кажется сомнительным. Приведем ряд аргументов. Монограммы на монетах Гелиокла I и Евкратида II некоторые идентичны, а некоторые весьма схожи, что говорит о преемственности власти. К тому же стоит вспомнить эллинскую традицию, по которой отцы сыновьям давали имена своих отцов, то есть внук носил имя деда. Рассмотрим ситуацию, при которой Евкратид II был отцом Гелиокла I. Тогда каковы были бы мотивы чеканки коммеморативных монет в честь Евкратида Великого со стороны царицы Лаодики, предположим, жены Евкратида II, и Гелиокла, внука Евкратида I и сына Евкратида II? Какие цели могли преследовать невестка и внук Евкратида I, если и так была бы очевидна их связь через Евкратида II с этим выдающимся монархом? Значимые мотивы и цели отсутствуют. Коммеморативные эмиссии монет, недовавшие политических девидентов, вряд ли возможны. В этом случае, если бы Гелиокл и Лаодика стремились бы получить выгоду от этого, они чеканили монеты, славившие имя Евкратида II. Рассмотрим ситуацию, при которой Евкратид II был бы отцом или сыном Платона. Тогда как объяснить уже указанное сходство чеканки монет Евкратида II и Гелиокла I, а также различие чекана Евкратида II и Платона? Как объяснить удивительное портретное сходство Евкратида II и Гелиокла I, а также заметные портретные отличия между Евкратидом II и Платоном? Итак, приходим к окончательному мнению, о том что Евкратид II имеет династическую связь с Гелиоклом I и Евкратидом I, при этом являясь сыном первого из них. В пользу же возможной связи Гелиокла I с династией Селевкидов может говорить тот факт, что он, когда стал царем, избрал себе Зевса в качестве бога-покровителя. На монетах Гелиокла Справедливого Зевс изображается как стоящим, аналогичным образом с Зевсом, изображенным на монетах Агафокла I Справедливого, так и сидящим на троне, аналогичным образом с Зевсом, изображенным на монетах Панталеона Спасителя. К тому же Гелиокл I принял имя «Справедливый» («Дикайос»), подчеркивая легитимность своей власти. Данное обстоятельство могло быть связано с коммеморативным чеканом Агафокла I. Примечательно, что у ближайших потомков Евкратида I - Платона, Гелиокла I, Евкратида II - отсутствуют индийские монетные эмиссии при том, что таковые имеются у преемников Деметрия I, то есть Евтидемидов. Монограммы на монетах этих потомков Евкратида Великого также не совпадают с монограммами на монетах Евтидемидов: Панталеона, Агафокла, Антимаха, Евтидема II.  Монета Антимаха Теоса Исходя из данных коммеморативных эмиссий Агафокла Справедливого, Антимаха Бога, Гелиокла и Лаодики, ординарных монетных эмиссий царей Платона, Гелиокла I, Евкратида II, Евтидема II, Панталеона I, Агафокла I, Антимаха I, можно совершить реконструкцию возможных событий после войны Деметрия I и Евкратида I. Во время индийского похода Евкратида I его сын и соправитель Платон решается на захват власти в царстве своего отца. Во время их встречи после этого похода Платон открыто совершает свержение Евкратида Великого, влекомый честолюбивыми помыслами и прекрываясь волей Гелиоса, своего бога-покровителя. Однако не все подданные Евкратида I приняли власть нового правителя. Лишь немногие земли державы Евкратида I присягнули на верность Платону. По-видимому, это был один из регионов в Бакгрии, возможно, лишь одна провинция с центральным городским поселением. Шаткость власти Платона усилилась, когда против него выступила оппозиционная сила внутри самой династии Евкратидидов в виде вдовы Евкратида Великого Лаодики и ее сына Гелиокла. Будучи в прошлом принцессой знатного эллинского рода, вероят-нее всего, представительницей династии Селевкидов, Лаодика увеличила шансы Гелиокла на приобретение престола. К тому же за долгое время царствования Евкратида I его власть должна была стать крепкой. Платон своим коварством явно внушал многим опасение перемен в государстве. Консервативно настроенные сподвижники Евкратида I, особенно эллины в столице и крупных бактрийских городах, решили поддержать притязания Гелиокла. Значительный фактор, который усугублял сложное положение Платона было соперничество Евкратидидов и Евтидемидов. Преемники Деметрия I Непобедимого владели значительными территориями в Индии и, возможно, на юге Бактрии. Евкратид I вел с Евтидемидами борьбу, что иллюстрирует его возвращение в Бактрию из Индии. Свержение узурпатора Платона было лишь делом времени. Скорее всего, он хотел повторить судьбу своего отца, который поднял восстание в Бактрии против Деметрия I, совершавшего завоевания в Индии, пользуясь ослаблением позиций свергнутого царя во время затянувшейся войны в другой стране. Тем не менее, Платон не смог этого осуществить и не стал великим полководцем. Хотя он принял имя «Славный» («Епифан»). Последние дни отцеубийцы Платона видятся в сумрачных тонах. Он был оставлен многими бывшими подданными, которые были когда-то ему верны как соправителю и наследнику Евкратида Великого. Его последним прибежищем стал какой-то город, защитники которого также не все доверяли своему владыке-предателю. Власть Платона держалась теперь не на славе, а на страхе. В итоге Платон был или предан, или покончил жизнь самоубийством. Возможно, чтобы смыть со своего имени позор, этот дерзкий правитель мог погибнуть на поле брани. Гелиокл, став царем, принял имя «Справедливый», подчеркивая законность своей власти. Правил Гелиокл I бактрийскими территориями. Отсутствие же индийских эмиссий монет, говорит о том, что в Индии укрепилась власть Евтидемидов, которые вос-пользовались династической борьбой внутри династии Евкратидидов. Сын Гелиокла I Евкратид II также не имеет индийских монетных эмиссий, поэтому территория его царства, вероятнее всего, ограничивалась бактрийскими провинциями. В начале своего царствования он не принял никаких громких имен{32}, но все же впоследствии мы видим, что к имени Евкратида II добавился эпитет «Спаситель» («Сотер»){33}. Вероятнее всего, это было связано с его эффективной внешней политикой. Какие победы мог одержать Евкратид II? Нам известно, что одной из значительных угроз Евкратидидам были правители из династии Евтидемидов, владевшие землями в Индии. Их попытки вернуть бактрийские территории, очевидно, периодически пред-принимались, но при непосредственных преемниках Евкратида Великого они не могли добиться полной победы. Отпор это агрессии мог дать и Евкратид II. Второй существеный противник всегда располагался на северных границах Греко-Бактрии. Это были воинственные кочевые народы. На тот момент времени ими могли быть юэчжи, пришедшие с востока. Мы знаем, что изначально они не одержали решающей победы над бактрийскими греками и приостановили свой натиск. Произошли эти события в царствование Евкратида I около 162 г. до н. э.{34} Была ли осуществлена очередная попытка юэчжей захватить Бактрию в правление Евкратида II? Четкого ответа на этот вопрос дать сегодня нельзя из-за недостаточности ис-точников. Однако мы знаем, что в итоге Бактрия была присоединена к владениям юэчжей около рубежа II - I вв. до н. э. Последним значительным соседом Бактрии была Парфия, сильное, растущее и агрессивное государство, которое уже в царствование Евкратида II отторгло у бактрийских эллинов некоторые сатрапии. Имя же «Спаситель» («Сотер») эллинские правители принимали часто именно после победы над «варварами», которые вторгались в их владения. В любом их этих случаев Евкратиду Спасителю удалось сохранить свое государство. Встает лишь вопрос: смог ли он передать его по наследству другим представителям династии Евкратидидов? Скорее всего, да, так как, исходя из данных нумизматики, преемники Евкратида правили еще задолго после Евкратида II. Однако при Гелиокле I и Евкратиде II не удалось восстановить власть Евкратидидов над индийскими территориями, где уже прочно укрепили свою власть преемники Евтидема I. История Евтидемидов после свержения Деметрия I кажется весьма драматичной. Эта династия была весьма сильна, к тому же была признана Антиохом III Великим. Она не могла исчезнуть в одночасье. Тем более, когда были завоеваны огромные территории в Индии. Борьба за власть внутри Евкратидидов также способствовала восстановлению власти преемников Евтидема I. Евтидем II, юный наследник Деметрия I, владел некоторыми территориями в Бактрии. Об этом может говорить бактрийский чекан монет этого царя, например, отсутствие индийских эмиссий и монограммы близкие монетным монограммам Евтидема I и Деметрия I. Возможно, он был соправителем Деметрия I, когда последний находился в индийском походе. В силу своей неопытности Евтидем II, вероятно, не смог дать отпор новой политической силе. Его власть могла быть сокрушена талантливым полководцем, узурпатором Евкратидом I. Однако, скорее всего, Евтидем II правил или во время правле-ния Евкратида I, сохранив некоторые владения Деметрия I, или после Евкратида I. В правление Панталеона власть Евтидемидов была упрочена в индийских и, возможно, южно-бактрийских провинциях, некогда принадлежавших Деметрию I Непобедимому, что видно из индийского и бактрийского чекана монет Панталеона. Его правление было спасительным для уже пошатнувшейся династии Евтидемидов. На его монетных эмиссиях мы не видим громких тронных имен. Однако его преемник Агафокл Справедливый (Дикайос), на своем коммеморативном чекане в честь него назвывает Панталеона «Спасителем» («Сотером»), возводя происхождение его власти к Александру Великому. Агафокл, унаследовавший власть в династии Евтидемидов, должен был установить равновесие сил. В качестве идеологической основы законности своей власти он выбирает широкое распространение идеи о том, что Евтидемиды - сам Евтидем I, его сын Деметрий I, Панталеон, непосредственный предшественник Агафокла - являются единственными законными правителями среди эллинов в этом регионе. Ведь власть над этими землями Александра, который владел ей от Ахеменидов, досталась Селевкидам. Они же ее утратили после правления Антиоха II, и она перешла к Диодоту I и его сыну. При этом свергнувший Диодота II Евтидем I был признан как царь Антиохом III. Таким образом, логическая цепочка замкнулась. Агафокл недаром принял имя «Справедливый» («Дикайос»), чтобы еще раз подчеркнуть легитимность своей власти. Данную информацию, как говорилось выше, мы черпаем из коммеморативных и ординарных эмиссий Агафокла. Возможно, к таким действиям его подтолкнули мероприятия Гелиокла I и его матери Лаодики. Ведь примечательно, что Гелиокл I тоже избрал себе форму пропаганды коммеморативный чекан монет в честь своего отца Евкратида Великого. Затем он принял тронное имя «Справедливый» («Дикайос»). Вероятно, ущемленное самолюбие Агафокла побудило его к ответным действиям. Он своими коммеморативными эмиссиями должен был показать: кто является действительно справедливым наследником Александра в Бактрии и Индии, и кто является по-настоящему великим полководцем. Наверное, Агафокл справедливо рассуждал о том, что нельзя было сравнивать Евкратида Великого с Александром Великим. Агафоклу Справедливому наследовал Антимах I Бог, который, судя по новым коммеморативным монетным эмиссиям, продолжил идеологическую борьбу Агафокла. Правление Антимаха I было, по-видимому, успешным, и его преемникам удалось приумножить владения Евтидемидов. Таким образом, при первых трех индо-греческих царях из династии Евтидемидов - Панталеоне Спасителе, Агафокле Справедливом, Антимахе I Боге - были заложены основные принципы новой эллинской государственности на индийском субконтиненте. Параллельно же развивались события в Бактрии, связанные с династией Евкратидидов. Таким образом, в описанный период времени состоялся великий раздел огромной греко-бактро-индийской империи Деметрия I и Евкратида I или Индо-Бактрийской империи греческих царей. Северные территории отошли Евкратидидам, а южные - Евтидемидам. Примечания 1. Tarn W.W. The Greeks in Bactria and India. 1st ed., Cambridge, 1938; 2nd ed., Cambridge, 1951; 3rd ed., Chicago, 1985. 2. Narain A.K. The Indo-Greeks. 1st ed., Oxford, 1957; 2nd ed.,Oxford, 1962. 3. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. Catalogue raisonne. Paris, 1991. 4. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 164-167. Pl. 4 - 5. 5. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 168 - 171. Pl. 5 - 6. 6. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 167. Pl. 5. Ser. 4. 7. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 169 - 171. Pl. 6. Ser. 5 - 9. 8. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 177. Pl. 8. Ser. 12. 9. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 177 - 178. Pl. 8. Ser. 13. 10. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 178. Pl. 8. Ser. 15. 11. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 178. Pl. 8. Ser. 14. 12. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 179. Pl. 8. Ser. 16. 13. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 179. Pl. 8. Ser. 17. 14. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 179 - 180. Pl. 8. Ser. 18. 15. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P 181. Pl. 9. Ser. 1 - 3. 16. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 173 - 174. Pl. 6 - 7. Ser. 1 - 4. 17. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 56 - 59. 18. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 181 - 182. Pl. 9. Ser. 1 - 6. 19. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 187. Pl. 10. Ser. 9. 20. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 187. Pl. 10. Ser. 10. 21. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 59 - 62. 22. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 209 - 210. Pl. 19 - 20. Ser. 13 - 16. 23. Cambridge History of India. Vol. I. Cambridge, 1922. P. 454. 24. Tarn W.W. The Greeks in Bactria and India. 2nd ed. Cambridge, 1951. P. 196. 25. Подъем и крушение империи эллинистического Дальнего Востока // ВДИ, 1940, №3 - 4. С. 202 - 203. 26. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1. М., 1964. С. 112. 27. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 222 - 225. Pl. 24 - 26. Ser. 1/1 - 17, 2/18 - 22, 3/23 - 70, 4/A - B. 28. Narain A.K. The Indo-Greeks. 1st ed., Oxford, 1957. P. 71 - 72. 29. Кушанское царство (по древним китайским источникам). М., 2005. С. 132. 30. Кушанское царство. С. 127. 31. Боровкова Л. А. Кушанское царство. С. 127. 32. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 217-218. Pl. 22 - 23. Ser. 1 - 2. 33. Bopearachchi O. Monnais greco-bactriennes et indo-grecques. P. 218-219. Pl. 23. Ser. 3. 34. Боровкова Л. А. Кушанское царство. С. 58. Далекий Серкланд 2013-12-21 17:08 Сергий Сергий: Цитата (Чжан Гэда @ Вчера, 14:26) Перевод надписи из Вестманланде Сергий уже приводил. Цитата (Сергий @ Вчера, 11:55) ...будет свободное время, и сам присмотрюсь к этому камню Присмотрелся...Слово karusm (Хорезм?) в тексте присутствует (в левом нижнем углу - читать можно наклонив голову влево, снизу вверх). Но "карусм" может быть поздней припиской. Признаки: 1. + kuÞlefR + seti : stff : auk sena : Þasi : uftiR slakua : sun : sia : etaÞr : austr - выглядит законченной фразой, и имеет везде двойные разделительные точки 2. i karusm - имеет одиночные разделительные точки ( . i . karusm) и совершенно не вписывается в рисунок (как нечто лишнее). Источник: http://svitoc.ru/index.php?showtopic=1609&st=15 А вот имя slakua (Слагва) показалось мне знакомым... Наш старый знакомый hlgw? В самом деле - в еврейском алфавите буквы S нету. По этой причине могло быть написано hlgw вместо slgw - т. е. slakua Новгородские князья и посадники 2013-12-21 17:23 анатол анатол: Цитата "В каком году Сфендослав сидел (Для князя в X-XII вв. "сидеть на столе" - это именно физически присутствовать в том или ином городе... Святослав сидел в Новгороде, значит там была его резиденция, и он там жил") в Немогарде при архонте Росии Ингоре? Тут у меня тоже проблемы с определением достоверности этой датировки достоверным источником. Вот и прошу разъяснить, был ли Святослав новгородским князем при жизни "Ингора"?" Мне кажется, что источник, Константин Порфирогенет, просто не знал, что Святославу при жизни Ингора было не больше 5 лет. И он физически не мог сидеть в Немограде в резиденции и править. Т.е. Константин Порфирогенит не достоверный источник. Верить сказанному им в этом случае нельзя. Буду рад, если историки развеют сомнения. Похоже, историки не могут развеять сомнения. Буду считать, что ссылки на Константина Порфирогенита лукавы. Далекий Серкланд 2013-12-21 18:21 Чжан Гэда Чжан Гэда: Взаимопереходящая пара звуков с-h широко известна во многих языках. Например, в корейском ханмуне (заимствованный древнекитайскй вэньянь) идет инициаль "h-", в то время как в Китае инициаль будет "с-" - например, Сянган (кит. Гонконг) и Хянхан (кор. Гонконг). В бурятском и монгольском та же разница. Крещение княгини Ольги 2013-12-21 20:15 Сергий Сергий: Цитата (Gurga @ Сегодня, 09:38) Константин Багрянородный написал свой трактат "Об управлении Империей" после 950. В трактате архонтом Руси назван Игорь. Цитата (анатол @ Сегодня, 13:50) Вывод. анатол, не следует делать поспешные выводы.Константин Багрянородный не достоверный источник по истории Руси. Констанитин Порфирогенит - современник описываемых им событий. Т.е. очень ценный свидетель. Греки хорошо знали архонта Русии Иггора. Знали, когда и как он погиб. В этом фрагменте идет речь не об Игоре, а о Святославе сыне Игоря архонта Русии. Т.е. в середине 950-х годов Русью полновластно правила вдова Игоря Ольга, а Святослава архонтом Русии ещё никто не считал - ни греки, ни скандинавы, ни немцы. Святослав ещё не возмужал. Но властвовать уже учился. Сидел самостоятельно в Новгороде. По всей видимости, недолго - скандинавам не запомнился. Они в Новгороде по торговым делам бывали гораздо чаще, чем в Киеве. Что здесь неверно представлено Константином Порфирогенитом? Крещение княгини Ольги 2013-12-21 21:16 анатол анатол: Цитата (Сергий @ Сегодня, 20:15) Святослав ещё не возмужал. Но властвовать уже учился. Сидел самостоятельно в Новгороде. В пять лет? Вы серьёзно? А вот в ПВЛ он сидел в Киеве. С мамой. А мама с Святославом тоже в Киеве. Святослав никогда не "сидел" в Новгороде. Цитата (Сергий @ Сегодня, 20:15) В этом фрагменте идет речь не об Игоре, а о Святославе сыне Игоря архонта Русии. Вы и Gurga несколько путаете. Мы не тот трактат рассматриваем. Не об "Управлении империей", но "О церемониях". В котором, якобы, говорилось о пребывании Ольги в Константинополе в 946г. Вот только Ольга в 944-948гг находилась на Руси. Дружно читаем русские летописи. И пост №9. Цитата (Сергий @ Сегодня, 20:15) Что здесь неверно представлено Константином Порфирогенитом? См. выше. А вот о сидении Святослава в Новгороде-другая тема. Новгородские князья и посадники. А там я задал раза три-четыре вопрос по теме. Вирус компьютерный видимо их кушает. Поскольку ответов нет, то я пришёл к выводу, что "ссылки на Константина Порфирогенита лукавы." Любимые стихи 2013-12-21 21:22 Суйко Суйко: А знаете, счастье – на самом-то деле – Содержит в себе удивительно мало: В нем лето, река, одуванчик, качели И бабушка – чтоб подтыкать одеяло. Качели, река, одуванчик и лето... Всё просто. Не верите – можно проверить. Но только условие: лет вам при этом Должно быть... ну, самое большее, девять. А можно: сугробы, снежки и салазки. И маму – чтоб мокрую куртку снимала. И папу – чтоб на ночь рассказывал сказки... Вы видите, как удивительно мало... А. Полетаева Новгородские князья и посадники 2013-12-21 21:23 Cyrus Alexios Cyrus Alexios: Цитата Мне кажется, что источник, Константин Порфирогенет, просто не знал, что Святославу при жизни Ингора было не больше 5 лет. И он физически не мог сидеть в Немограде в резиденции и править. С чего бы это? Поинтересуйтесь на досуге, сколько лет было новгородским князьям Святославу Всеволодовичу в 1200 г. или Ростиславу Михайловичу в 1229 г. Они "физически" почему-то смогли сидеть в Новгороде-Немогарде именно в резиденции (на Рюриковом городище). Это во-первых. А есть 100% уверенность, что Святослав родился в 942 г.? Может именно Константин Багрянородный как раз и знал, что Святославу к моменту смерти отца было больше 5 лет. Это во-вторых. Цитата Т.е. Константин Порфирогенит не достоверный источник. Верить сказанному им в этом случае нельзя. Вывод неверный. Цитата Буду считать, что ссылки на Константина Порфирогенита лукавы. Да и считайте на здоровье, кто ж Вам мешает? Новгородские князья и посадники 2013-12-21 21:30 Сергий Сергий: Цитата (анатол @ Дек 19 2013, 18:39) В каком году Сфендослав сидел (Для князя в X-XII вв. "сидеть на столе" - это именно физически присутствовать в том или ином городе... Святослав сидел в Новгороде, значит там была его резиденция, и он там жил") в Немогарде при архонте Росии Ингоре? анатол, Святослав сын Игоря сидел в Новгороде после смерти Игоря.Святослав всегда оставался сыном своего отца "архонта Русии" Как я (простой русский мужик из глубинки) навечно останусь сыном своего отца (простого сельского учителя). Новгородские князья и посадники 2013-12-21 21:55 анатол анатол: Цитата (Cyrus Alexios @ Сегодня, 21:23) С чего бы это? Поинтересуйтесь на досуге, сколько лет было новгородским князьям Святославу Всеволодовичу в 1200 г. или Ростиславу Михайловичу в 1229 г. Они "физически" почему-то смогли сидеть в Новгороде-Немогарде именно в резиденции (на Рюриковом городище). Это во-первых. А есть 100% уверенность, что Святослав родился в 942 г.? Может именно Константин Багрянородный как раз и знал, что Святославу к моменту смерти отца было больше 5 лет. Это во-вторых. Это просто. Гадать не стоит. Цитата В год 6453 (945)...Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд. ... В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще ребенок. Цитата (Cyrus Alexios @ Сегодня, 21:23) Т.е. Константин Порфирогенит не достоверный источник. Верить сказанному им в этом случае нельзя. Вывод неверный. Архонт Росии-Игорь. Святослав был ребёнком. Игорьпогибает-архонт Росии-Святослав. У Порфирогенита Игорь архонт. Значит жив. Время написания книги-ок. 950г. Константин Порфирогенит не достоверный источник. Цитата (Cyrus Alexios @ Сегодня, 21:23) С чего бы это? Поинтересуйтесь на досуге, сколько лет было новгородским князьям Святославу Всеволодовичу Святослав был князем всей Руси. Новгородские князья и посадники 2013-12-21 22:01 анатол анатол: Цитата (Сергий @ Сегодня, 21:30) анатол, Святослав сын Игоря сидел в Новгороде после смерти Игоря. В Киеве. Никогда не сидел в Новгороде. Тем более в малолетнем возрасте. Цитата (Сергий @ Сегодня, 21:30) Святослав всегда оставался сыном своего отца "архонта Русии" Нет. После смерти Игоря он сам стал архонтом Русии. А Игорь стал усопшим отцом архонта. Цитата (Сергий @ Сегодня, 21:30) Как я (простой русский мужик из глубинки) навечно останусь сыном своего отца (простого сельского учителя) Но не будете простым сельским учителем. |
| В избранное | ||

