Очередной сборник С бору по сосенке.
* * *
14 июля 1789 года крепость Бастилия (во Франции) пала от рук революционеров.

Вместо бесчисленных заключенных, деспотически закованных в цепи противников режима, которыми она должна была быть переполнена - как говорили в народе, освободители обнаружили только 7 человек: четверых мошенников-подделывателей, двух сумасшедших и одного дворянина (в некоторых источниках указывается - убийцу).
Те не политические заключенные, которые были освобождены из Бастилии в этот исторический день - ставший национальным праздником Франции - были лишь горсткой, сравнительно с десятками тысяч заключенных, а затем отправленных на эшафот во время революционного террора.
Французский историк Патрис Генифе в книге «Политика революционного террора. 1789 - 1794» писал:
«Общий итог Террора насчитывает, следовательно, минимум 200 тысяч и максимум 300 тысяч смертей, или примерно 1% населения на 1790 г. (28 млн. жителей)».
Всего же, по его подсчётам, за годы революции и наполеоновских войн Франция потеряла 2 миллиона человек.
ИСТОЧНИКИ:
https://esoterics.wikireading....
https://serg-slavorum.livejour...
* * *
Эта тема озвучена мной в видео, текст ниже:
Ссылка на видео: https://youtu.be/RMFOdO9hF_4
* * *
ВОЗМОЖНЫ ИСКАЖЕНИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
В результате свободного оперирования символами, знаками, образами, словесными догмами, математическими формулами и теоретическими моделями сплошь и рядом возникают некоторые спекулятивные конструкции, настолько далеко отступающие от отображенной в них реальности, что превращаются в прямую противоположность объективной истине.
Гёте называл это «ложным светом знаний».
«Я проклял знаний ложный свет», - так перевел соответствующую строку из «Фауста» Пушкин.
Не менее определенно высказался Байрон в «Манфреде»: наука - «обмен одних незнаний на другие» (перевод Ивана Бунина).
Густав Шпет перевел эти слова еще резче:
Наука вся - невежества обмен
На новый вид невежества другого.
Столь же безапелляционно высказался о сути псевдонаучного теоретизирования Максимилиан Волошин:
«Я призрак истин сплавил в стройный бред».
Другими словами, то, что в общественном мнении считается наукой, на самом деле представляет собой сумму более или менее верных взглядов на определенный фрагмент действительности, событие или проблему.
Группа интерпретаторов объявляет собственное видение вопроса истиной в последней инстанции и, обладая монополией на владение и распространение информации, всеми доступными средствами старается утвердить в общественном мнении только свою (а не какую-то другую) точку зрения.
Тем не менее общее количество незыблемых истин, отвоеванных человеком у бесконечно-неведомой природы, более чем ограничено, и обретение их никогда не завершится.
В этом, собственно, и состоит суть и смысл научного познания.
* * *
Всякий миф, фольклорный образ, имеют под собой такое же реальное основание, как и научный факт. И заложенный в обычных мифах первоначальный смысл поддается строго научному анализу и реконструкции.
Итальянский фольклорист Джузеппе Питре (1843–1916) проницательно напутствовал всех, кто прикасается к неисчерпаемой сокровищнице народного творчества и народной памяти:
«Философ, законодатель, историк - всякий, кто хочет понять свой народ до конца, должен присматриваться к его песням, пословицам, сказкам, а также к его поговоркам, отдельным выражениям и словам.
За словом всегда стоит его значение, за буквенным смыслом - смысл тайный, аллегорический, под странным пестрым одеянием сказки кроется история и религия народов и наций».
Все сказанное относится и к закодированным в мифологических сюжетах и образах сведениям о реальных событиях далекого прошлого, о стародавних общественных отношениях и нормах поведения, об устройстве мироздания, его происхождении и законах, о катастрофах и великих переселениях народов.
* * *
В России почти не знают вавилонского историка БерОса (ок. 350–280 до н. э.).
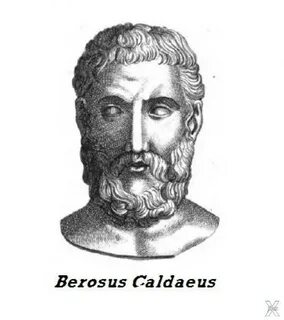
Труды его (точнее - дошедшие из них фрагменты) никогда на русский язык не переводились и вообще считаются чуть ли не апокрифическими.
Между тем они - один из важнейших источников по древней истории.
Сам Берос был жрецом-астрологом, но после взятия Вавилона Александром Македонским и наступления «смутного времени» бежал в Элладу, выучил греческий язык, затем возвратился на родину и написал по-гречески для царя Антиоха I историю Вавилонии, включая доисторические времена, опираясь при этом на древние, погибшие уже тогда источники.
Так вот Берос, описывая допотопную историю Земли, делит населявших её разумных существ на три категории:
гиганты, обыкновенные люди и существа, жившие в море, которые обучили людей искусствам и ремёслам. Сначала исполины были добрые и славные, говоря словами Библии. Но постепенно деградировали и стали угнетать людей.
«Питались человеческим мясом, - пишет Берос, - не уважали Богов и творили всякие беззакония».
Боги за нечестие и злобу затмевали им разум, а под конец решили истребить нечестивцев, наслав на Землю воды потопа.
Погибли все, кроме праведника Ноа [библейский Ной] и его семейства. От него и пошел по-новой род людской.
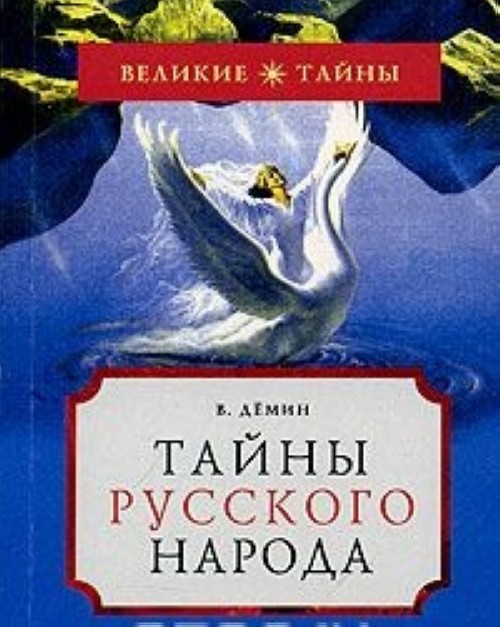
Из книги - Тайны русского народа.
Автор Валерий Дёмин.
* * *
В библиотеке:
- Девушка, дайте мне, пожалуйста, Пушкина, «Повести Белкина».
- Вы сначала определитесь - вам Пушкина или Белкина.
Пессимист видит только бесконечный туннель.
Оптимист видит свет в конце туннеля.
А реалист видит туннель, свет и поезд, идущий навстречу.
- А как вы лечите депрессию?
- Никак. Она у меня не болеет.
Мы товарищи и братья -
Я - рабочий,
Ты - мужик!
Наши грозные объятья
Смерть и гибель для владык!
Никифор Тихомиров («Красная газета», Петроград, 1919 г. )
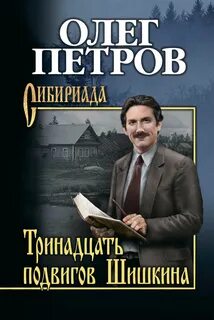
Из книги - Тринадцать подвигов Шишкина.
* * *
Русский Иван.
Разыскал я бывшего солдата Ивана Одарченко в поздние дни осени. По телефону старик сказал, что встречаться теперь с корреспондентом ему не совсем сподручно. Капусту ударило морозом и теперь её самое время рубить и квасить. Старик помолчал. Ему, наверное, интересно было, как московская штучка прореагирует на это не геройское заявление.
– Дело это святое, – сказал я, – бывший воин, который рубит капусту, это вполне подходящий для фотографии сюжет… Без капусты жить пресно…
Сюжета такого у нас, однако, не вышло.
Старый солдат Иван Степанович Одарченко, встречи с которым я и так ожидал как праздника, решил усугубить это дело вишнёвым вином собственного приготовления.
Первое время я смотрел на него так, как мог бы смотреть пушкинский Дон-Гуан на ожившую статую командора.
После третьего бокала Иван Степанович дружески уронил мне на плечи свою руку.
– Я сразу понял, что ты неплохой мужик, если понимаешь толк в капусте…
Весомой и каменно-крепкой была эта нечаянная ласка его, не утратившей силы десницы. Поперхнулся я, пожалуй, не от похвалы, а именно от весомости ласки.
На стене, над кроватью, застеленной с трогательной деревенской тщательностью, висит богатырских размеров меч, крашенный алюминиевой краской.
Я всё знаю об этом мече из газет, из книжки мемуаров скульптора Вучетича, но мне хочется всё услышать от самого Ивана Одарченко. Собственно, я и приехал-то только для того, чтобы посмотреть на него, да послушать.
Теперь эту магнитную запись я буду хранить как особую ценность.
– А дело было такое. Тогда в Берлине уже первые мирные дни установились. Мы разные праздники стали вспоминать. Решили отметить День физкультурника. У трибуны, на которой стояли одни генералы и полковники, увидел я своего товарища и подошёл к нему поговорить.
Тут заметил я, что ко мне внимательно присматривается и прислушивается человек в штатском. Я, конечно, насторожился, люди в штатском у военного всегда были на подозрении. А он поманил меня к себе и пригласил на трибуну. А там же генералы – оробел я. А они улыбаются.
Генерал Котиков, тогда комендант Берлина, спрашивает у штатского: «Ну, что, Евгений Викторович, нашёл?». Оказывается, это скульптор Вучетич. Он уже второй месяц искал подходящую натуру для памятника воинам-освободителям, который уже запланировали ставить в Трептов-парке.
Ну, приказ дали – откомандировать меня в распоряжение скульптора Вучетича.
Наш полковник, начальник комендатуры, говорит мне: «Ну, Иван, попал ты в историю…». Я только потом его понял.

Приехали мы в немецкую академию художеств, где была мастерская Евгения Викторовича, там, правда, уже была метровая глиняная фигура. Одел он на меня плащ-палатку, дал в руки меч, потом посмотрел на того глиняного солдата:
«О, – говорит, – какое искажение». Так и сказал.
В первом эскизе девочку Вучетич лепил с дочери коммуниста немецкого Краузе, мы стали дружить с ним потом. А тут скульптор говорит, – как же так, мы, прежде всего, своих спасали. И нашли другую девочку. У генерала Котикова, того самого первого коменданта города Берлина, две дочки росли. Светланке было три года.
Вот с ней на руках и стою…

А дальше сплошной юмор начался. Мне передавали потом, что Вучетич про меня целую историю сочинил. Будто меня назначили охранять свою же собственную фигуру.
И будто бы говорил я тем, кто туда приходил, вот, мол, смотрите, это я стою над всем городом Берлином. Потом стал будто бы говорить – вот стою я над Германией.

А когда стал я говорить, что стою над всей Европой, сердце у меня не выдержало, и я умер от суеты, да гордости. Шутник оказался этот скульптор, а легенда эта всё же пошла гулять по свету.
Наверное, Евгений Викторович Вучетич и сам в неё поверил, потому что как-то пришла мне от него книжка, которую он подписал так: я, мол, рад, что «солдат из Трептова» оказался жив и здоров…
Дальше в магнитной записи есть и эпизод, последовавший за той мнимой смертью солдата Ивана Одарченко, который, олицетворяя всех русских Иванов, и в самом деле стоит пока над Европой, устало опустивши меч и прижимая к сердцу крохотное детское тельце.
В ЦК КПСС накопилось целых сто пятьдесят писем от тщеславных людей, заявивших вдруг, что это именно с них скульптор лепил грандиозную скульптуру.
Пригласили старого солдата в военкомат.
«Что делать, – говорят, – может ты что запамятовал, Иван Степанович?».
«Ну, если у тех память получше, – ответил он, – пусть вспомнят, что это за девочка, которая на руках у воина-освободителя».
Из ЦК разослали письма претендентам и все как один ответили: конечно, немецкая.
На том инцидент исчерпался.
…Всё мне казалось, что не сделал я порядочного снимка.
– Давайте так, – говорю я, – возьмите бокал и говорите тост, как будто за нашим столом все те люди, которые этот снимок увидят.
Иван Степанович налил себе вишнёвки, мгновенно вспыхнувшей от заглянувшего в окно солнца рубиновой искрой.
– Ну, что сказать. У матери моей убили на войне мужа, моего отца, брата и сына… Немцев она люто невзлюбила, они казались ей наподобие зверей. А потом мы с ней по приглашению в Германию попали. Там, у памятника, встретилась она с немецкими матерями, у которых тоже поубивали мужей и сыновей. Они вместе с ней плакали. Она тогда говорит мне: «Гляди, сынку, немцы, а як свои…».

Из тоста этого я понял, что русский солдат вынес из тяжких испытаний своего времени такое нужное убеждение, что сердца у людей одинаковые.
И, если бы жить по сердцу, то не только убивать друг друга, но и сделать другому простую пакость никому бы и в голову не пришло.
Я не стану дополнять этого тоста, чтобы не впасть в грех высокопарности. Хотя и в высокопарности тоже бывает своя искренность.
А подумал о том, что мне надо бы сказать Ивану Степановичу Одарченко, что скульптор, создавший памятник, конечно, несколько помпезный, все же мало погрешил против этой самой искренности.

И опущенный меч, и ребёнок, бережно прижатый к солдатскому плечу, все это и есть черты нашей натуры. И солдат тот каменный похож на Ивана Степановича не только лицом.
Это памятник отходчивому солдатскому сердцу, какое исправно бьётся в груди старого солдата до сих пор. Дай Бог, чтоб дольше…

Потом пришла из школы внучка. Бросилась деду на шею. Я попросил, чтобы дед снял со стены устрашающих размеров игрушечный меч, и старый сюжет повторился…
Это был отрывок из книги - Русские отцы Америки.
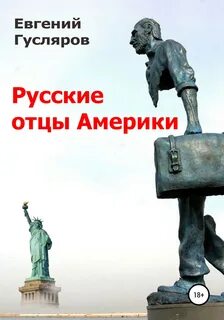
Автор Евгений Николаевич Гусляров
Плейлист Русские отцы Америки - 6 видео озвученные мной и на этом знакомство с книгой заканчивается.
* * *
Все выпуски С бору по сосенке - 106 видео озвученные мной.
На этом всё, всего хорошего, читайте книги - с ними интересней жить! Юрий Шатохин, канал Веб Рассказ, Новосибирск.
До свидания.
Следить





Последние откомментированные темы:
-
Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг
(5)
skrjyni
,
01.03.2022
-
Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.
(7)
Bird Effe
,
01.03.2022
-
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...
(7)
Лариса Белфорд
,
01.03.2022
-
СВОДКИ С ФРОНТА
(4)
Леонид Цаканов
,
01.03.2022
-
Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.
(28)
Ольга Денисова
,
01.03.2022
-
СРОЧНО: Россия ответила Западу на ограничение полётов.
(3)
sergey_ivanov
,
28.02.2022
-
Не те войска на нас напали.
(16)
odes90
,
28.02.2022
-
Генеральная прокуратура России предупреждает о признаках государственной измены.
(9)
sergey_ivanov
,
28.02.2022
-
Узбекистанские ученые создали «антикоронавирусное» молоко.
(2)
skrjyni
,
28.02.2022
-
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована.
(4)
skrjyni
,
28.02.2022
-
Жестче, чем в 2014». Кремль назвал границы ЛДНР.
(2)
Агрофена
,
28.02.2022
-
ТЯЖЁЛАЯ ПОСТУПЬ ИМПЕРИИ.
(3)
skrjyni
,
28.02.2022
-
Нож в спину Донбасса.
(1)
Иван Михайлович
,
28.02.2022
-
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ: ОТВЕТЫ НА 10 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ.
(3)
ЩТК
,
27.02.2022
20250729135838